О жалости к критикам
Максудов, Мастер, Маргарита
и другие воображаемые друзья Булгакова
и другие воображаемые друзья Булгакова
Хорошая книга увлекает читателя, и он почти никогда не обращает внимания на то, как она построена. Есть однако особое удовольствие разглядывать все эти тщательно подогнанные к друг другу кирпичики, все эти неявные взаимосвязи, которые создают в результате шедевр.
Мне давно хотелось поговорить о том, как сделан (и тут этот глагол более чем уместен) роман «Мастер и Маргарита». Не задаваться вопросами: стильно ли он скроен или только модно? (здесь мы как бы вспоминаем Коко Шанель) высокохудожественную ткань ли использует автор или подделку? по своим ли лекалам кроил или по чужим? Нет, мне интересно показать лишь те пути, которыми ходит Булгаков, но начать, увы, придется не с этого.
Начать придется с убийства
Дело в том, что не только в отношении Булгакова, но и многих других ни в чем неповинных писателей, сложилась традиция, немедленно подыскивать их героям прототипы. Когда речь идет о второстепенных персонажах, которые с потрохами перенесены из жизни в книгу, это до известной степени оправданно. Но когда речь идет о главных героях, это попросту неверно. Увы, предрассудок этот живуч, но попытаться в очередной раз его убить, все же стоит.
У Михаила Булгакова есть два персонажа: Мастер («Мастер и Маргарита») и Максудов («Театральный роман»), о которых часто говорят, что Булгаков писал их с себя. Не стану спорить, что это так. Спорить я буду с тем, что их вообще было с кого писать.
У Михаила Булгакова есть два персонажа: Мастер («Мастер и Маргарита») и Максудов («Театральный роман»), о которых часто говорят, что Булгаков писал их с себя. Не стану спорить, что это так. Спорить я буду с тем, что их вообще было с кого писать.
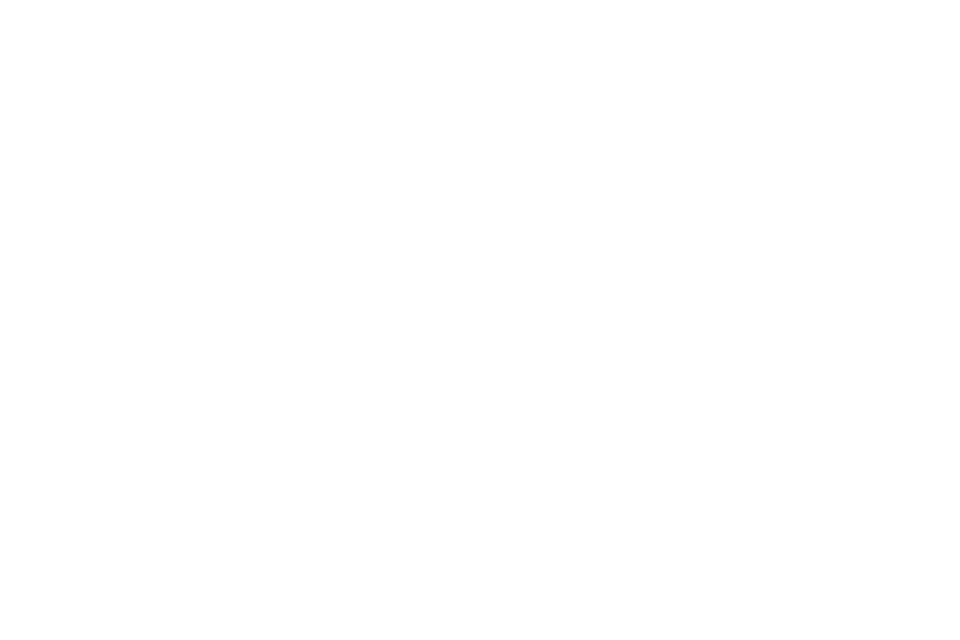
Михаил Афанасьевич Булгаков
Максудов: человек, которого не было
Что такое Максудов? На первый взгляд, один из тех чудаковатых людей, которые не могут счастливо устроиться в нашем мире. Расхожее клише в шляпе. Ничего интересного.
Но поставим вопрос шире — о чем вообще «Театральный роман»? Я не о Больших Идеях сейчас говорю, а вот буквально, о чем он? Человек пишет роман и попадает в мир литературный; человек пишет пьесу и попадает в мир театральный. Эти два мира литературный и театральный заполняют основное пространство булгаковской книги. Их нужно описать, и возникает вопрос, как это лучше сделать?
Булгаков решает отправить в эти миры человека неискушенного, человека, который стал бы идеальным наблюдателем. Здесь не нужен опытный, который все наперед знает. Здесь нужен человек наивный, любопытный, держащийся чуть в стороне, но одновременно остро чувствующий эти новые миры. И Булгаков призывает Максудова. Ближе к концу романа Максудов и сам обозначит эту свою миссию: «вы притерпелись, я же новый, мой взгляд остр и свеж!»
Но поставим вопрос шире — о чем вообще «Театральный роман»? Я не о Больших Идеях сейчас говорю, а вот буквально, о чем он? Человек пишет роман и попадает в мир литературный; человек пишет пьесу и попадает в мир театральный. Эти два мира литературный и театральный заполняют основное пространство булгаковской книги. Их нужно описать, и возникает вопрос, как это лучше сделать?
Булгаков решает отправить в эти миры человека неискушенного, человека, который стал бы идеальным наблюдателем. Здесь не нужен опытный, который все наперед знает. Здесь нужен человек наивный, любопытный, держащийся чуть в стороне, но одновременно остро чувствующий эти новые миры. И Булгаков призывает Максудова. Ближе к концу романа Максудов и сам обозначит эту свою миссию: «вы притерпелись, я же новый, мой взгляд остр и свеж!»
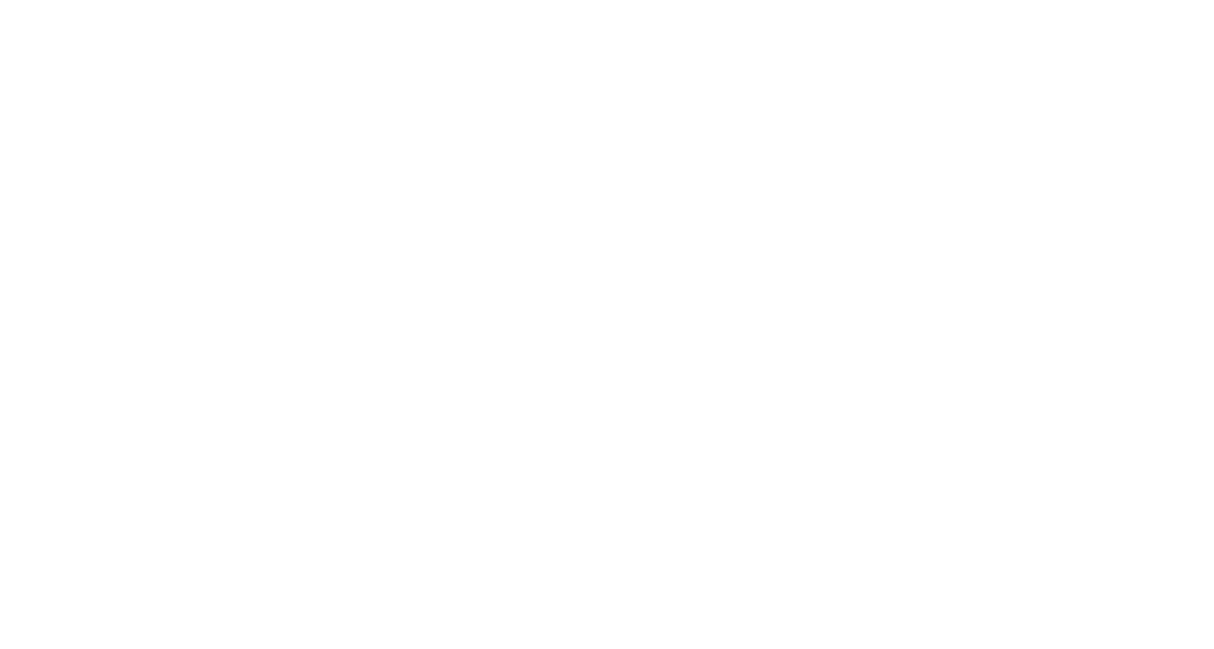
Максудов. Фильм «Театральный роман», 2003
Посмотрите, как тщательно Булгаков лишает свое героя всего, что свойственно обычному человеку. У Максудова нет ни семьи, ни друзей (единственный друг его — человек совсем не близкий ему по духу), нет обустроенного быта. Но это еще цветочки. У него и прошлого-то нет, так, лишь тени воспоминаний. Попытайтесь собрать все эти рассыпанные по роману крохи: гармоника, черный снег, два курса университета, папа вице-губернатор. Где вы видели людей, у которых настолько отсутствует прошлое, что просится слоган: «Максудов — живи настоящим!», где? Булгаков дотошно лишает своего героя всего, что может помешать ему быть идеальным наблюдателем.
Отмечу, что задача эта непростая уже в силу того, что повествование ведется от первого лица. Когда пишешь: «Я шел под мокрыми липами и думал о…», то очень сложно не соскочить мыслями в прошлое. Человеку свойственно искать в нем убежище. Но то — человеку, а Максудов и вовсе не человек. В принципе, уже предисловие к роману наводит на мысли, что Максудов — человек, которого не было, но и безо всяких предисловий в романе хватает намеков на его фантомную природу.
Любой, кто пишет о Булгакове, считает своим долгом упомянуть о его любви к чертовщине, о разбросанных в изобилии отсылках то к Фаусту, то к Данте. Данте выглядывает и из самого Максудова, который довольно быстро находит проводника по загадочному театральному аду — Бомбардова, этакого Вергилия на полставочки. И вот тут возникает совершенно удивительная вещь. С одной стороны у нас Максудов, переживающий, влюбленный в театр человек, единственный живой (как и Данте, спустившийся в ад) в этом мире сложных масок, и одновременно он-то как раз единственный призрак, покойник среди живых людей (у многих из которых, кстати, были двойники в реальном мире).
Отмечу, что задача эта непростая уже в силу того, что повествование ведется от первого лица. Когда пишешь: «Я шел под мокрыми липами и думал о…», то очень сложно не соскочить мыслями в прошлое. Человеку свойственно искать в нем убежище. Но то — человеку, а Максудов и вовсе не человек. В принципе, уже предисловие к роману наводит на мысли, что Максудов — человек, которого не было, но и безо всяких предисловий в романе хватает намеков на его фантомную природу.
Любой, кто пишет о Булгакове, считает своим долгом упомянуть о его любви к чертовщине, о разбросанных в изобилии отсылках то к Фаусту, то к Данте. Данте выглядывает и из самого Максудова, который довольно быстро находит проводника по загадочному театральному аду — Бомбардова, этакого Вергилия на полставочки. И вот тут возникает совершенно удивительная вещь. С одной стороны у нас Максудов, переживающий, влюбленный в театр человек, единственный живой (как и Данте, спустившийся в ад) в этом мире сложных масок, и одновременно он-то как раз единственный призрак, покойник среди живых людей (у многих из которых, кстати, были двойники в реальном мире).
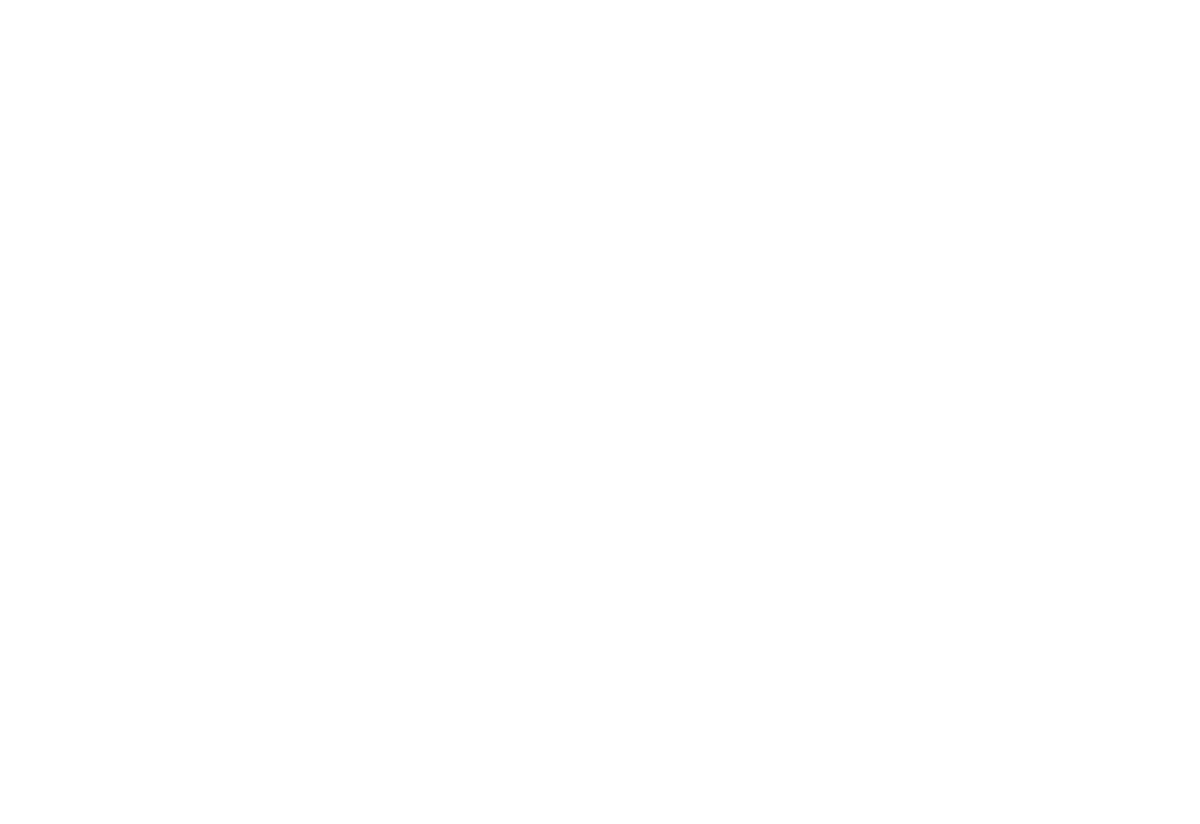
Данте и Вергилий прогуливаются по аду. Гюстав Доре.
Надо сказать, что двойственный образ Максудова по ряду причин в глаза не бросается. Во-первых, он удачно мимикрирует под человека не от мира сего, так что странности его вполне естественны. Во-вторых, хорошо вписывается в послереволюционную жизнь, когда многие потеряли близких, когда людей разметало по свету, чем объясняется его тотальное одиночество. В-третьих, целый ряд моментов роднит его судьбу с булгаковской (что и породило миф о прототипе), а герой черпает от автора недостающую жизненную силу благодаря неизбежным проекциям.
И вместе с тем, фантомная природа Максудова дает себя знать на всем протяжении романа, и Булгаков умело пользуется этим ее свойством, чтобы проскакивать целые периоды, которые не собирается описывать или, однажды описав, не собирается к ним больше возвращаться. Он регулярно обнуляет память своего героя. Фразы подобные этим в изобилии разбросаны по роману:
И вместе с тем, фантомная природа Максудова дает себя знать на всем протяжении романа, и Булгаков умело пользуется этим ее свойством, чтобы проскакивать целые периоды, которые не собирается описывать или, однажды описав, не собирается к ним больше возвращаться. Он регулярно обнуляет память своего героя. Фразы подобные этим в изобилии разбросаны по роману:
«Если бы меня спросили — что вы помните о времени работы в «Пароходстве», я с чистою совестью ответил бы — ничего».
«Но все это теперь как-то смылось в моей памяти, не оставив ничего, кроме скуки, в ней, все это я позабыл».
«Я не помню, чем кончился май. Стерся в памяти и июнь...»
«Так прошло много ночей, их я помню, но как-то все скопом, — было холодно спать. Дни же как будто вымыло из памяти — ничего не помню».
«Мне запомнилось это (ну хоть что-то!), а остальное удивительным образом смазалось в памяти».
«Но все это теперь как-то смылось в моей памяти, не оставив ничего, кроме скуки, в ней, все это я позабыл».
«Я не помню, чем кончился май. Стерся в памяти и июнь...»
«Так прошло много ночей, их я помню, но как-то все скопом, — было холодно спать. Дни же как будто вымыло из памяти — ничего не помню».
«Мне запомнилось это (ну хоть что-то!), а остальное удивительным образом смазалось в памяти».
За счет этого приема Максудов все время удерживается автором в текущем моменте. Бывает, конечно, что на секундочку тот заглянет в прошлое («Запомнилось лишь то, что встречали меня повсюду почему-то неприязненно») или будущее («Меня не будет, меня не будет очень скоро!»), но полноценно нырнуть в воспоминания не может, ибо вымыло, стерлось, смазалось, смылось.
Мастер до Маргариты
Мастер — персонаж родственный Максудову. Мы встречаем те же огрызки свидетельств о былой его жизни: историк, работал в музее, знает пять языков, был женат на женщине, имени которой не помнит (особенно очаровательно, что эта не реалистичная деталь в данном случае исполнена реализма). Налицо те же симптомы, что у Максудова, то же фантомное происхождение, но тем интереснее проследить различие между этими персонажами. Оно проявляется, прежде всего, в возложенных на них задачах.
Максудов, как было сказано раньше, наблюдатель, и мир, который мы видим, мы видим его глазами. Уже благодаря этому он занимает совершенно особое положение по отношению к остальным героям «Театрального романа». Мастер же лишь один из героев, ему не нужно быть прозрачным стеклом, через которое читатель наблюдает действие, и одно это обстоятельство кардинально меняет его роль.
Различия проявляются даже в отношении малочисленных сведений из прошлой жизни героев. Набор Максудова более лиричен, произволен и распылен по всему тексту. По Мастеру же мы сразу получаем стройный набор входных данных. Он нужен, как доказательство, что этот человек мог написать роман о Понтии Пилате.
Максудов, как было сказано раньше, наблюдатель, и мир, который мы видим, мы видим его глазами. Уже благодаря этому он занимает совершенно особое положение по отношению к остальным героям «Театрального романа». Мастер же лишь один из героев, ему не нужно быть прозрачным стеклом, через которое читатель наблюдает действие, и одно это обстоятельство кардинально меняет его роль.
Различия проявляются даже в отношении малочисленных сведений из прошлой жизни героев. Набор Максудова более лиричен, произволен и распылен по всему тексту. По Мастеру же мы сразу получаем стройный набор входных данных. Он нужен, как доказательство, что этот человек мог написать роман о Понтии Пилате.
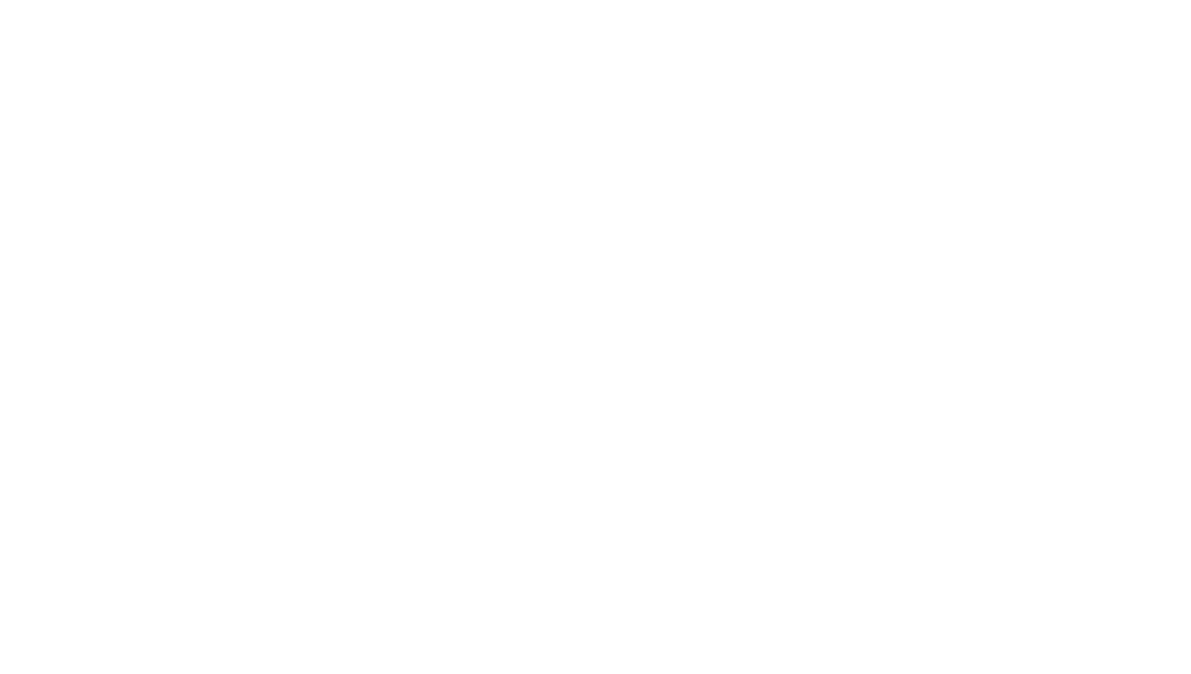
Нашел на просторах чудесную картину Понтий Пилат и Владимир Ленин, но авторство установить не смог
Дальше больше. Несмотря на то, что события в «Театральном романе» описаны ретроспективно (все уже случилось), Максудов рассказывает о них так, как если бы они происходили с ним в данный момент. Здесь нет характерных для воспоминаний перескакиваний с предмета на предмет, здесь слишком много детальных описаний, диалогов, словом, всего того, что память удержать не может.
Мастер в разговоре с Иванушкой пускается именно в воспоминания. И вот тут (барабанная дробь) происходит очень интересная вещь. Воспоминания Мастера состоят из двух частей. Первая — почти вся его жизнь, умещается в нескольких строчках про жену и музей, и, очевидно, совершенно для рассказчика неважна. Вторая, чрезвычайно важна, здесь сходятся выигрыш денег, квартирка, роман и Маргарита. Очень занимательно проследить ту подготовительную работу, которую проделывает Булгаков, чтобы создать свою изумительную романтическую сказку.
Мастер в разговоре с Иванушкой пускается именно в воспоминания. И вот тут (барабанная дробь) происходит очень интересная вещь. Воспоминания Мастера состоят из двух частей. Первая — почти вся его жизнь, умещается в нескольких строчках про жену и музей, и, очевидно, совершенно для рассказчика неважна. Вторая, чрезвычайно важна, здесь сходятся выигрыш денег, квартирка, роман и Маргарита. Очень занимательно проследить ту подготовительную работу, которую проделывает Булгаков, чтобы создать свою изумительную романтическую сказку.
Романтическая сказка
Начнем с того, что задача эта вовсе непростая. Представьте-ка себе реальную жизнь: встретились бы два немолодых уже человека, у каждого свой жизненный опыт, свои проблемы, свои привычки. У нее муж, обеспеченная жизнь, устоявшийся круг знакомств; он человек нелюдимый, с непростым характером, склонный к душевному заболеванию. Не слишком удачное начало для сказки.
И вот Булгаков начинает с этим непростым материалом работать. Он начинает с того, что представляет Мастера в очень выгодном свете — тот оказывается единственным человеком, который понимает, что к чему и разъясняет Иванушке про Воланда. Таким образом, с первой минуты Мастер предстает перед читателем человеком проницательным, а, кроме того, явно пережившим какую-то личную трагедию, что только добавляет к нему интереса. Затем, уничтожив все прошлое Мастера за исключением того, что он историк и знает языки, Булгаков получает идеального автора романа.
Мастер теперь непредвзятый летописец, способный рассказать правдивую историю о Христе, без привнесения личных мотивов. Это, во-первых. А, во-вторых, Булгаков получает идеального возлюбленного для Маргариты, лишенного житейского опыта, возможно, даже никогда до сих пор и не любившего.
После этого следует еще один блистательный ход. С одной стороны, читателю внушается уверенность, что роман, который написал Мастер — это великий роман (тут и бессмертное: «О, как я угадал! О, как я все угадал!» и одержимость Маргариты этим романом), но тут же отсекается пуповина, связывающая Мастера с его творением. Он не гений, не писатель. Невозможно представить, как этот человек кричит: «Ай да Мастер! ай да сукин сын!» Невозможно представить, что он пишет что-то еще, помимо своего романа. Этот роман даже не акт творения, это какое-то угадывание, указание свыше. Помимо религиозного смысла это позволяет Булгакову тут же увести Мастера на задний план, чтобы он не мешался со своей гениальностью, не затмевал Маргариту.
И, наконец, выигрыш и обретение уютного подвальчика завершают подготовку. Итак, у нас есть Мастер, чье прошлое больше не помеха, есть любовное гнездышко, деньги и приманка в виде удивительного романа. Можно выпускать Маргариту.
И вот Булгаков начинает с этим непростым материалом работать. Он начинает с того, что представляет Мастера в очень выгодном свете — тот оказывается единственным человеком, который понимает, что к чему и разъясняет Иванушке про Воланда. Таким образом, с первой минуты Мастер предстает перед читателем человеком проницательным, а, кроме того, явно пережившим какую-то личную трагедию, что только добавляет к нему интереса. Затем, уничтожив все прошлое Мастера за исключением того, что он историк и знает языки, Булгаков получает идеального автора романа.
Мастер теперь непредвзятый летописец, способный рассказать правдивую историю о Христе, без привнесения личных мотивов. Это, во-первых. А, во-вторых, Булгаков получает идеального возлюбленного для Маргариты, лишенного житейского опыта, возможно, даже никогда до сих пор и не любившего.
После этого следует еще один блистательный ход. С одной стороны, читателю внушается уверенность, что роман, который написал Мастер — это великий роман (тут и бессмертное: «О, как я угадал! О, как я все угадал!» и одержимость Маргариты этим романом), но тут же отсекается пуповина, связывающая Мастера с его творением. Он не гений, не писатель. Невозможно представить, как этот человек кричит: «Ай да Мастер! ай да сукин сын!» Невозможно представить, что он пишет что-то еще, помимо своего романа. Этот роман даже не акт творения, это какое-то угадывание, указание свыше. Помимо религиозного смысла это позволяет Булгакову тут же увести Мастера на задний план, чтобы он не мешался со своей гениальностью, не затмевал Маргариту.
И, наконец, выигрыш и обретение уютного подвальчика завершают подготовку. Итак, у нас есть Мастер, чье прошлое больше не помеха, есть любовное гнездышко, деньги и приманка в виде удивительного романа. Можно выпускать Маргариту.
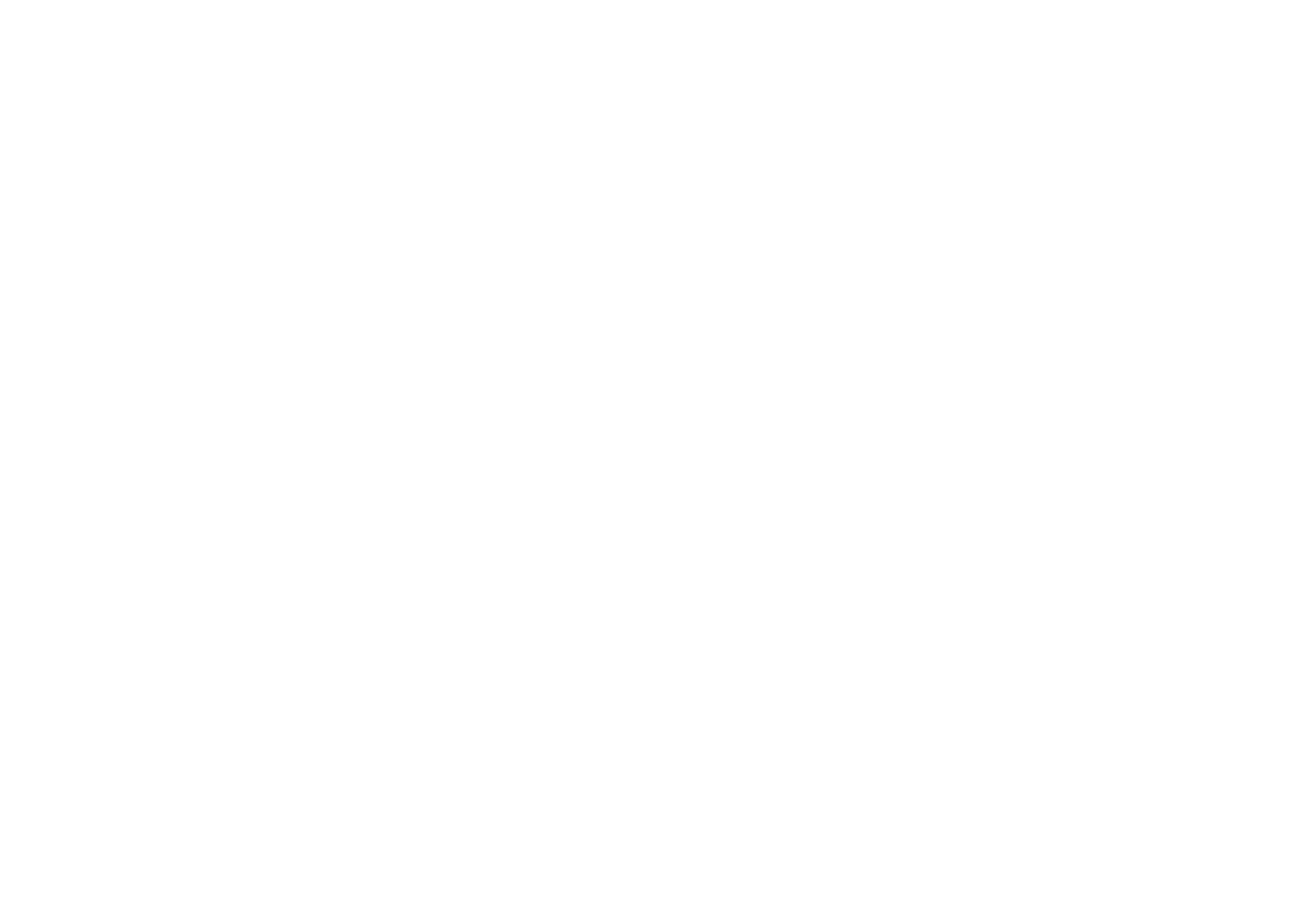
Мы влетаем в тревожную весну, вместе с Мастером ждем Маргариту у оконца (ах, как там пахнет сиренью!) и не успеваем опомниться, как уже и нет ничего — только Иванушка заворожено слушает своего ночного гостя. Этот стремительный любовный вихрь, срывающий с роз лепестки, при всей своей стремительности, тоже очень тщательно продуман.
Булгаков использует две возможности, чтобы говорить о том, о чем считает нужным и опускать все лишнее. Во-первых, это воспоминания Мастера. Как и всякие воспоминания, они выборочны. Мастеру не нужно терять память как Максудову (имя жены выпадет лишь для того, чтобы показать насколько прошлые, домаргаритные, отношения были фантомны), достаточно просто говорить о том, что запомнилось больше всего, о том, что кажется самым важным. Однако этот эмоциональный рассказ был бы слишком неровен и прерывист. Тогда на сцену выходит «во-вторых» — Булгаков берет дело в свои руки и дает, например, такую поясняющую вставку:
«Иван узнал, что гость его и тайная жена уже в первые дни своей связи пришли к заключению, что столкнула их на углу Тверской и переулка сама судьба и что созданы они друг для друга навек».
Эти обобщающие вставки скрепляют рассказ Мастера и придают ему целостность, чрезвычайно экономя при этом эфирное время. Чередование детальных подробностей: «Иногда она шалила и, задержавшись у второго оконца, постукивала носком в стекло», и подводящих итог обобщений: «Ивану стало известным, что мастер и незнакомка полюбили друг друга так крепко, что стали совершенно неразлучны» создают иллюзию непрерывности и нашей полной осведомленности о делах героев. А вместе с тем, этой осведомленности нет и в помине (действительно, как много мы знаем о том, как проводили время Мастер и Маргарита, о чем говорили, что делали?).
Не успеваем мы этого толком осознать, как у Мастера начинаются неприятности с романом, а там и болезнь, и романтическая история остается в прошлом вечно-сияющей звездой.
Булгаков использует две возможности, чтобы говорить о том, о чем считает нужным и опускать все лишнее. Во-первых, это воспоминания Мастера. Как и всякие воспоминания, они выборочны. Мастеру не нужно терять память как Максудову (имя жены выпадет лишь для того, чтобы показать насколько прошлые, домаргаритные, отношения были фантомны), достаточно просто говорить о том, что запомнилось больше всего, о том, что кажется самым важным. Однако этот эмоциональный рассказ был бы слишком неровен и прерывист. Тогда на сцену выходит «во-вторых» — Булгаков берет дело в свои руки и дает, например, такую поясняющую вставку:
«Иван узнал, что гость его и тайная жена уже в первые дни своей связи пришли к заключению, что столкнула их на углу Тверской и переулка сама судьба и что созданы они друг для друга навек».
Эти обобщающие вставки скрепляют рассказ Мастера и придают ему целостность, чрезвычайно экономя при этом эфирное время. Чередование детальных подробностей: «Иногда она шалила и, задержавшись у второго оконца, постукивала носком в стекло», и подводящих итог обобщений: «Ивану стало известным, что мастер и незнакомка полюбили друг друга так крепко, что стали совершенно неразлучны» создают иллюзию непрерывности и нашей полной осведомленности о делах героев. А вместе с тем, этой осведомленности нет и в помине (действительно, как много мы знаем о том, как проводили время Мастер и Маргарита, о чем говорили, что делали?).
Не успеваем мы этого толком осознать, как у Мастера начинаются неприятности с романом, а там и болезнь, и романтическая история остается в прошлом вечно-сияющей звездой.
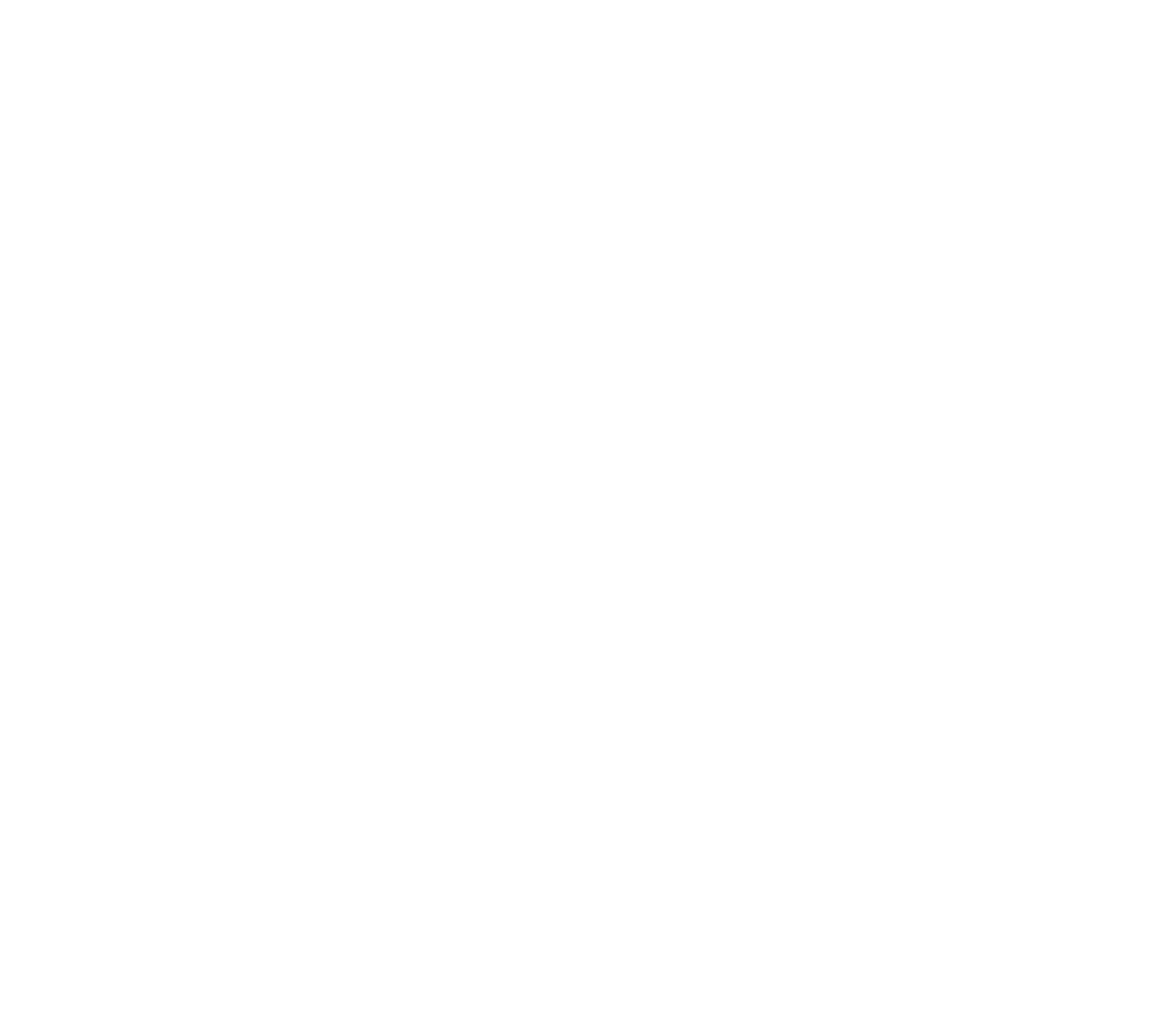
Булгаков с женой Еленой Сергеевной
Есть и еще один момент, который позволяет событиям разворачиваться столь стремительно и гладко. Дело в том, что герои у Булгакова идеально знают свое место и не путаются друг у друга под ногами. Это касается даже наших возлюбленных. Они очень точно разделили роли. В этом танце всегда ведет Маргарита: она любит, проявляет инициативу, первая заговаривает с Мастером, берет его под руку, приходит к нему, а потом не теряет надежды вновь отыскать и т.д. Мастер безупречно (извините) отвечает на ее любовь и двигается в такт (извините), но он, так сказать, пассивный партнер (извините еще раз).
Если же серьезно, Булгакову удалось проделать изумительную штуку — создать романтическую сказку, в которую, в самом деле, начинаешь верить. Беда в том, что этот успех обернулся отчасти против автора. Сначала доверчивые читатели, а затем и режиссеры уверовали, что вот он рецепт «верной и вечной любви» и, не разобравшись в пропорциях, принялись ведрами лить любовную патоку. Получившиеся сопли в сахаре, с налипшими там-сям цветочками сирени, засмердели такой волной пошлости, что уже доверчивые критики принялись обвинять в этом первоисточник. И совершенно напрасно. Эти прекрасные отношения могут существовать только в том специально созданном мире, которым является булгаковский роман. Если их извлечь в реальный мир, они лопаются (видимо, от любви) как глубоководные рыбы, забрызгивая все слизью и цветочками сирени.
Если же серьезно, Булгакову удалось проделать изумительную штуку — создать романтическую сказку, в которую, в самом деле, начинаешь верить. Беда в том, что этот успех обернулся отчасти против автора. Сначала доверчивые читатели, а затем и режиссеры уверовали, что вот он рецепт «верной и вечной любви» и, не разобравшись в пропорциях, принялись ведрами лить любовную патоку. Получившиеся сопли в сахаре, с налипшими там-сям цветочками сирени, засмердели такой волной пошлости, что уже доверчивые критики принялись обвинять в этом первоисточник. И совершенно напрасно. Эти прекрасные отношения могут существовать только в том специально созданном мире, которым является булгаковский роман. Если их извлечь в реальный мир, они лопаются (видимо, от любви) как глубоководные рыбы, забрызгивая все слизью и цветочками сирени.
Удивительная анатомия
Про булгаковских героев следует сказать еще вот что. Все они идеально соответствуют своему назначению. Их роли четко определены, внешность и характеры очерчены ярко, но почти всегда однобоко. Как и в шаржах, тут выделены какие-то основные черты, к которым автор хочет привлечь внимание. Все остальное вычеркивается изобретательно и безжалостно. Еще одна фирменная черта — это крайне редуцированный внутренний мир булгаковских героев. Это, кстати, не сразу бросается в глаза, поскольку внутренние монологи в романах присутствуют, и доступ к мыслям героев у нас как будто есть. Однако эти мысли, как правило, лишь отражение внешней ситуации, не больше.
Для Булгакова совершенно нетипична рефлексия, когда герой заморачивается мыслями, отчего и почему он поступает так, как поступает. Более того, он почти никогда не играет на раздвоенности между тем, что герой говорит и делает и тем, что думает. У того же Толстого самое обычное дело, когда герой полагает визиты глупостью, но вынужден участвовать в этой глупости. Такая монолитность булгаковских героев приводит к удивительному эффекту, очень огорчительному для критиков. Булгаковские герои, как игрушечные модельки автомобилей — выполнены объемно, с деталями, с реализмом, и безумно хочется узнать, что у них внутри, а выясняется, что никакого «внутри» не существует. Мне даже кажется, что мания подбирать булгаковским героям прототипы вызвана как раз этой специфической их анатомией.
Для Булгакова совершенно нетипична рефлексия, когда герой заморачивается мыслями, отчего и почему он поступает так, как поступает. Более того, он почти никогда не играет на раздвоенности между тем, что герой говорит и делает и тем, что думает. У того же Толстого самое обычное дело, когда герой полагает визиты глупостью, но вынужден участвовать в этой глупости. Такая монолитность булгаковских героев приводит к удивительному эффекту, очень огорчительному для критиков. Булгаковские герои, как игрушечные модельки автомобилей — выполнены объемно, с деталями, с реализмом, и безумно хочется узнать, что у них внутри, а выясняется, что никакого «внутри» не существует. Мне даже кажется, что мания подбирать булгаковским героям прототипы вызвана как раз этой специфической их анатомией.
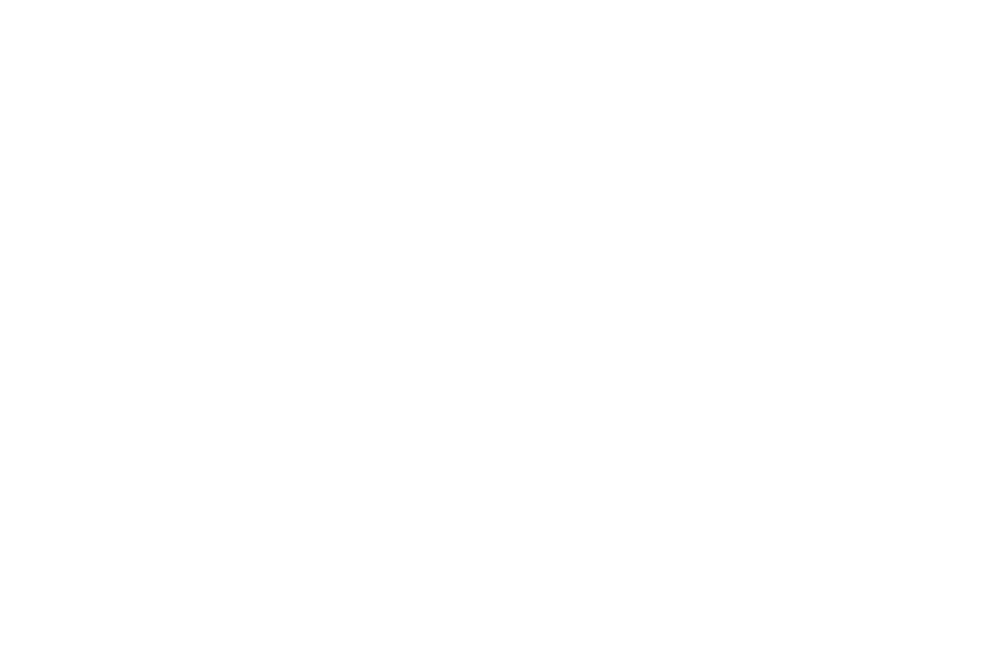
Игрушечные машинки, они как булгаковские герои только машинки
Сравните, что мы знаем, например, о Маргарите и что мы знаем об Анне Карениной. Получится, что об Анне мы знаем гораздо больше. Мы видим, как она ведет себя с разными людьми, мы узнаем, что думают о ней эти разные люди, и что думает она сама, и из этого множества разнообразных ситуаций и описаний создается ее образ. Он получается достаточно сложный, например, Анну можно представить, как безумно влюбленную и страстную женщину, а можно, как манипуляторшу, лишь позволяющую себя любить.
Образ Маргариты намного проще и целостнее. С какой стороны ни глянь — она женщина, которая любит. Никакого тебе разнообразия, никакого психологизма, никаких тебе метаний и истинных мотивов. Естественно, критик начинает скучать, и чтобы хоть как-то оживить свой труд, призывает на помощь прототип — Елену Сергеевну Булгакову, чтобы сравнивая этих двух женщин, обрести хоть какую-то динамику.
Образ Маргариты намного проще и целостнее. С какой стороны ни глянь — она женщина, которая любит. Никакого тебе разнообразия, никакого психологизма, никаких тебе метаний и истинных мотивов. Естественно, критик начинает скучать, и чтобы хоть как-то оживить свой труд, призывает на помощь прототип — Елену Сергеевну Булгакову, чтобы сравнивая этих двух женщин, обрести хоть какую-то динамику.
О чем же роман?
Важно понимать, что такое отношение к героям вовсе не является недостатком, просто цель здесь другая — не развернуть героя во всей красе, а вписать его в общую картину, сделать, прежде всего, частью целого. Разумеется, это можно сказать про любую вещь, но есть книги, в которых герой играет, так сказать, главенствующую роль, и все прочее просто рама, в которой он эффектно смотрится.
А есть «Мастер и Маргарита».
Этот роман вызывает самые противоречивые отзывы: кто-то говорит, что это роман о дьяволе, кто-то о Христе, кто-то тащит на первое место любовь, кто-то отказывает роману в художественной ценности и возмущается отсутствием главного героя, кто-то утверждает, что главный герой Иванушка Бездомный, что якобы ради него завертелась вся эта история.
На мой взгляд, попытка выделить в этом романе главное, обречена на провал, поскольку сам этот роман воплощен как отдельный мир, сложный, замкнутый сам на себе, детально продуманный и самодостаточный. Обычно, у меня не возникает таких образов, но этот роман кажется сложной объемной конструкцией, со множеством внутренних связей, где прошлое и настоящее сплетается с вечным.
А есть «Мастер и Маргарита».
Этот роман вызывает самые противоречивые отзывы: кто-то говорит, что это роман о дьяволе, кто-то о Христе, кто-то тащит на первое место любовь, кто-то отказывает роману в художественной ценности и возмущается отсутствием главного героя, кто-то утверждает, что главный герой Иванушка Бездомный, что якобы ради него завертелась вся эта история.
На мой взгляд, попытка выделить в этом романе главное, обречена на провал, поскольку сам этот роман воплощен как отдельный мир, сложный, замкнутый сам на себе, детально продуманный и самодостаточный. Обычно, у меня не возникает таких образов, но этот роман кажется сложной объемной конструкцией, со множеством внутренних связей, где прошлое и настоящее сплетается с вечным.
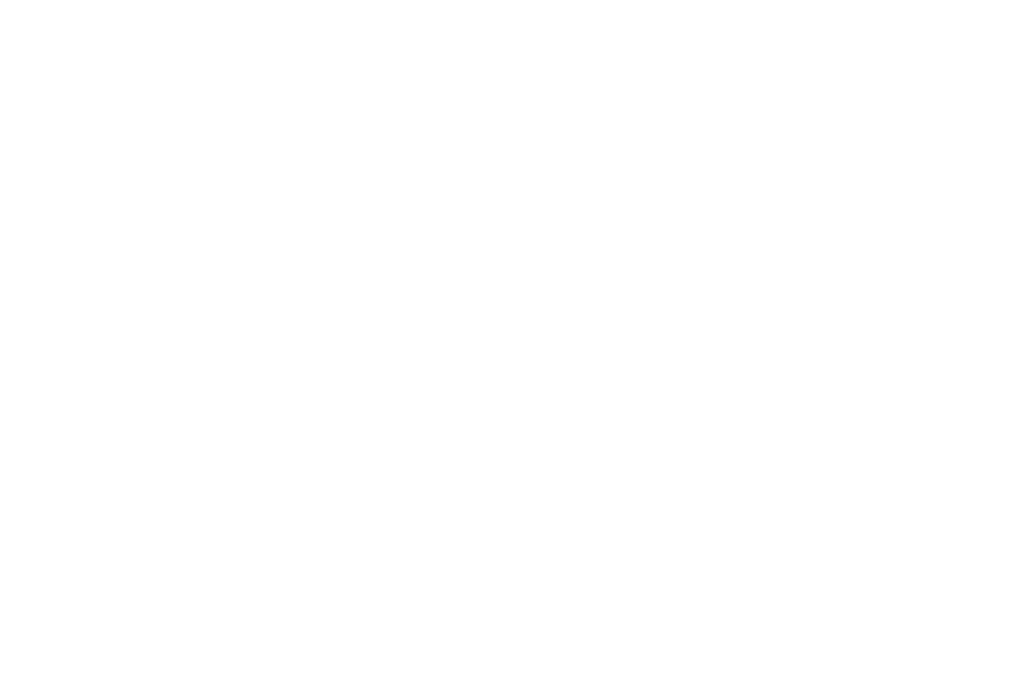
Только в воображении все еще сложнее и гармоничнее
Ярче всего о бессилии критиков свидетельствует странное желание искать ответы о романе почему-то не в романе, а... в Евангелии, словно оно является сонником, по которому следует расшифровывать булгаковские грезы. Когда речь заходит об Ершалаимских главах критик слюнявит палец и начинает сличать описание Христа и Иешуа. «Христос смел и временами суров, а Иешуа мягкотел, излишне добр и вообще какой-то толстовец, значит...» — и критик немедленно делает из этого какой-нибудь далекоидущий вывод. Интересно, что ни одно другое произведение почему-то не принято толковать по другой книге. Никто не делает выводов, что если в рок-опере «Иисус Христос — суперзвезда» Христос поет, а в Евангелии не поет, то это что-то значит и на этом основании надо переосмыслить оперу.
Из-за того, что в умах критиков христианский канон держит примат над булгаковским романом, христианские смыслы начинают контрабандой перетекать в роман. Возьмем Воланда. Раз он Сатана, а по христианской традиции Сатана безусловное зло и противник Бога, то и булгаковский Воланд воспринимается критиками, как противник рода человеческого, а все, кто ему помогает или получают от него помощь (Мастер и Маргарита, например), становятся злодеями. Однако если посмотреть на действия Воланда в романе, мы не увидим в них зла. Воланд скорее отвечает за справедливость, выполняет судейско-прокурорскую функцию и преследует злодеев, нежели замышляет против Бога. Но этого, конечно, не разглядеть, если полагать, что Булгаков описывает христианского дьявола.
Из-за того, что в умах критиков христианский канон держит примат над булгаковским романом, христианские смыслы начинают контрабандой перетекать в роман. Возьмем Воланда. Раз он Сатана, а по христианской традиции Сатана безусловное зло и противник Бога, то и булгаковский Воланд воспринимается критиками, как противник рода человеческого, а все, кто ему помогает или получают от него помощь (Мастер и Маргарита, например), становятся злодеями. Однако если посмотреть на действия Воланда в романе, мы не увидим в них зла. Воланд скорее отвечает за справедливость, выполняет судейско-прокурорскую функцию и преследует злодеев, нежели замышляет против Бога. Но этого, конечно, не разглядеть, если полагать, что Булгаков описывает христианского дьявола.
Не люди — боги!
Но вернемся к героям.
Я уже говорил, что герои у Булгакова замечательно однобоки. Поразительно насколько в них отсутствует все, помимо одной нужной автору функции, но еще более поразительно, что это почти незаметно. Возьмем Иешуа. В отличие от евангелического Христа, он воплощенное милосердие. Никаких громогласных проповедей. Никакого «не мир пришел я принести, но меч». Никакой попытки воздать по заслугам (для этого есть Воланд, ведь «каждое ведомство должно заниматься своими делами»).
Про Мастера и Маргариту уже было сказано (и было сказано достаточно). Все действия и переживания Пилата тоже укладываются в прямую линию: человеку не достает мужества поступить, так как он бы хотел, он мучится и старается, по возможности, уменьшить свою вину. К слову говоря, в ранних редакциях у Пилата есть жена, и он знает про ее роман с секретарем:
«Пахнет маслом от головы моего секретаря, — думал прокуратор, — я удивляюсь, как моя жена может терпеть при себе такого вульгарного любовника... Моя жена дура...»
В окончательном варианте эта побочная линия изгнана прочь. Как и все прочие побочные линии.
Получается очень занятная штука. Булгаковские герои начинают напоминать героев комиксов или, если угодно, античных богов. Эти ведь тоже специализированны: один отвечает за огонь, другой за молнии, третий быстро бегает, а четвертый летает. Также и булгаковские герои делают какую-то одну вещь, но зато делают ее хорошо. Перед нами возникают: чистая любовь, чистое милосердие, чистая справедливость, чистая преданность (Левий Матвей), чистое предательство (Иуда, Алоизий Могарыч).
Это не бьет по глазам только потому, что герой проявляет нужное качество именно тогда, когда оно уместно, а потом уходит со сцены, и ничего другого мы о нем узнать не успеваем. Подобный подход, к слову сказать, очень нетипичен для книг такого уровня. Обычно, наоборот, герои показаны людьми непростыми, полными противоречий и т. д. В «Мастере и Маргарите» Булгаков не только не ставил перед собой подобную задачу, но крайне жестко формировал своих героев, обрезая любые сюжетные линии, которые уводили бы в сторону.
Я уже говорил, что герои у Булгакова замечательно однобоки. Поразительно насколько в них отсутствует все, помимо одной нужной автору функции, но еще более поразительно, что это почти незаметно. Возьмем Иешуа. В отличие от евангелического Христа, он воплощенное милосердие. Никаких громогласных проповедей. Никакого «не мир пришел я принести, но меч». Никакой попытки воздать по заслугам (для этого есть Воланд, ведь «каждое ведомство должно заниматься своими делами»).
Про Мастера и Маргариту уже было сказано (и было сказано достаточно). Все действия и переживания Пилата тоже укладываются в прямую линию: человеку не достает мужества поступить, так как он бы хотел, он мучится и старается, по возможности, уменьшить свою вину. К слову говоря, в ранних редакциях у Пилата есть жена, и он знает про ее роман с секретарем:
«Пахнет маслом от головы моего секретаря, — думал прокуратор, — я удивляюсь, как моя жена может терпеть при себе такого вульгарного любовника... Моя жена дура...»
В окончательном варианте эта побочная линия изгнана прочь. Как и все прочие побочные линии.
Получается очень занятная штука. Булгаковские герои начинают напоминать героев комиксов или, если угодно, античных богов. Эти ведь тоже специализированны: один отвечает за огонь, другой за молнии, третий быстро бегает, а четвертый летает. Также и булгаковские герои делают какую-то одну вещь, но зато делают ее хорошо. Перед нами возникают: чистая любовь, чистое милосердие, чистая справедливость, чистая преданность (Левий Матвей), чистое предательство (Иуда, Алоизий Могарыч).
Это не бьет по глазам только потому, что герой проявляет нужное качество именно тогда, когда оно уместно, а потом уходит со сцены, и ничего другого мы о нем узнать не успеваем. Подобный подход, к слову сказать, очень нетипичен для книг такого уровня. Обычно, наоборот, герои показаны людьми непростыми, полными противоречий и т. д. В «Мастере и Маргарите» Булгаков не только не ставил перед собой подобную задачу, но крайне жестко формировал своих героев, обрезая любые сюжетные линии, которые уводили бы в сторону.
Второго сорта
При этом этот небольшой в общем-то роман буквально наполнен событиями и людьми. В нем находится место снам, в которых сдают валюту, в чем участвует множество действующих лиц, в нем подробно описано Варьете со всеми служащими и зрителями, в нем есть сцена, в которой писатели ждут Берлиоза, хотя потом исчезают из романа, как и подавляющее большинство героев. Я уже молчу про сцену бала и купание Маргариты, про жильцов дома на Садовой, про всех этих медсестер, врачей, курьеров, следователей, женщин и мужчин, которые наводняют роман безо всякой особой нужды. Казалось бы, для чего писатель, который сразу бьет главных героев линейкой по рукам, стоит тем на минутку задуматься о личном, тащит в свою книгу кучу второстепенных персонажей?
Ответ, по-видимому, прост. Булгаков хотел создать мир сложный, разнообразный и, конечно, ему потребовалось население для этого мира. Ему не хотелось, чтобы в нем жили лишь главные герои. Но чтобы уравновесить главных и второстепенных героев, последних пришлось пригласить не просто много, а очень много. В «Анне Карениной» тоже хватает персонажей второго плана, однако их число и активность не сопоставимы с массовкой в «Мастере и Маргарите», и потому впечатление от этих романов разное.
В «Анне Карениной» в фокусе внимания все же Левин, Кити, Анна, Вронский, Облонский, Каренин, Долли. Про всех этих мужиков, братьев, помещиков и графинь вспоминаешь уже с некоторым усилием. В «Мастере и Маргарите» второстепенные персонажи обладают удивительной автономией, и безо всякого стеснения лезут в первые ряды: Берлиоз, Штурман Жорж, Степа Лиходеев, Николай Иванович (боров), Рюхин, Аннушка. И это притом, что персонажи-то все эпизодические. Они и места-то в романе почти не занимают, а между тем запоминаются.
Ответ, по-видимому, прост. Булгаков хотел создать мир сложный, разнообразный и, конечно, ему потребовалось население для этого мира. Ему не хотелось, чтобы в нем жили лишь главные герои. Но чтобы уравновесить главных и второстепенных героев, последних пришлось пригласить не просто много, а очень много. В «Анне Карениной» тоже хватает персонажей второго плана, однако их число и активность не сопоставимы с массовкой в «Мастере и Маргарите», и потому впечатление от этих романов разное.
В «Анне Карениной» в фокусе внимания все же Левин, Кити, Анна, Вронский, Облонский, Каренин, Долли. Про всех этих мужиков, братьев, помещиков и графинь вспоминаешь уже с некоторым усилием. В «Мастере и Маргарите» второстепенные персонажи обладают удивительной автономией, и безо всякого стеснения лезут в первые ряды: Берлиоз, Штурман Жорж, Степа Лиходеев, Николай Иванович (боров), Рюхин, Аннушка. И это притом, что персонажи-то все эпизодические. Они и места-то в романе почти не занимают, а между тем запоминаются.
Действуешь, следовательно существуешь
О том, что проза Булгакова драматургична тоже много писали. Тут важно отметить, что драматургия бывает разной. В «Молли Суини» герои, например, пускаются в пространные рассуждения, что-то настойчиво вспоминают, практически не взаимодействуя между собой. У Булгакова напротив герои либо действуют, либо говорят; каких-то задушевных рассуждений и воспоминаний у него почти нет (это касается как пьес, так и романов). Зато есть изумительные по точности описания таких деталей поведения, которые великолепно передают нюансы того, что с героями в данный момент происходит.
Например:
«— Ну вот… ведь даже лицо, которое вы описывали… разные глаза, брови! Простите, может быть, впрочем, вы даже оперы «Фауст» не слыхали?
Иван почему-то страшнейшим образом сконфузился и с пылающим лицом что-то начал бормотать про какую-то поездку в санаторию в Ялту…»
Вот эта «поездка в санаторию» очень хороша.
А вот второе:
«Ресторанные полотенца, подброшенные уехавшими ранее в троллейбусе милиционером и Пантелеем, ездили по всей платформе. Рюхин пытался было их собрать, но, прошипев почему-то со злобой: «Да ну их к черту! Что я, в самом деле, как дурак, верчусь?..» — отшвырнул их ногой и перестал на них глядеть».
Такие прекрасные штрихи очень удаются Булгакову. Рефлексия никогда не занимала важное место в его вещах, но в «Мастере и Маргарите» она, порой, вырождается вовсе. Здесь мы впервые видим героев, у которых внутренний мир полностью отсутствует. Я говорю про Воланда и его свиту.
Надо сказать, что до Булгакова дьявола представляли или чудовищем, или очеловечивали, приписывая какие-то привычные нам мотивы. Конечно, его наделяли и сверхспособностями, но дьявол также страдал, сердился, испытывал приступы гордыни и смятения, словом, вел себя, как простой смертный. Ни о Воланде, ни об его свите мы ничего подобного сказать не можем. Их внутренний мир, характеры, мотивы скрыты от нас. Они просто пришли делать свою работу. Когда Воланд покидает наш мир, с ним и его свитой происходит метаморфоза, еще больше обнажающая контраст между тем, кем они казались здесь и тем, чем являлись на самом деле.
Например:
«— Ну вот… ведь даже лицо, которое вы описывали… разные глаза, брови! Простите, может быть, впрочем, вы даже оперы «Фауст» не слыхали?
Иван почему-то страшнейшим образом сконфузился и с пылающим лицом что-то начал бормотать про какую-то поездку в санаторию в Ялту…»
Вот эта «поездка в санаторию» очень хороша.
А вот второе:
«Ресторанные полотенца, подброшенные уехавшими ранее в троллейбусе милиционером и Пантелеем, ездили по всей платформе. Рюхин пытался было их собрать, но, прошипев почему-то со злобой: «Да ну их к черту! Что я, в самом деле, как дурак, верчусь?..» — отшвырнул их ногой и перестал на них глядеть».
Такие прекрасные штрихи очень удаются Булгакову. Рефлексия никогда не занимала важное место в его вещах, но в «Мастере и Маргарите» она, порой, вырождается вовсе. Здесь мы впервые видим героев, у которых внутренний мир полностью отсутствует. Я говорю про Воланда и его свиту.
Надо сказать, что до Булгакова дьявола представляли или чудовищем, или очеловечивали, приписывая какие-то привычные нам мотивы. Конечно, его наделяли и сверхспособностями, но дьявол также страдал, сердился, испытывал приступы гордыни и смятения, словом, вел себя, как простой смертный. Ни о Воланде, ни об его свите мы ничего подобного сказать не можем. Их внутренний мир, характеры, мотивы скрыты от нас. Они просто пришли делать свою работу. Когда Воланд покидает наш мир, с ним и его свитой происходит метаморфоза, еще больше обнажающая контраст между тем, кем они казались здесь и тем, чем являлись на самом деле.
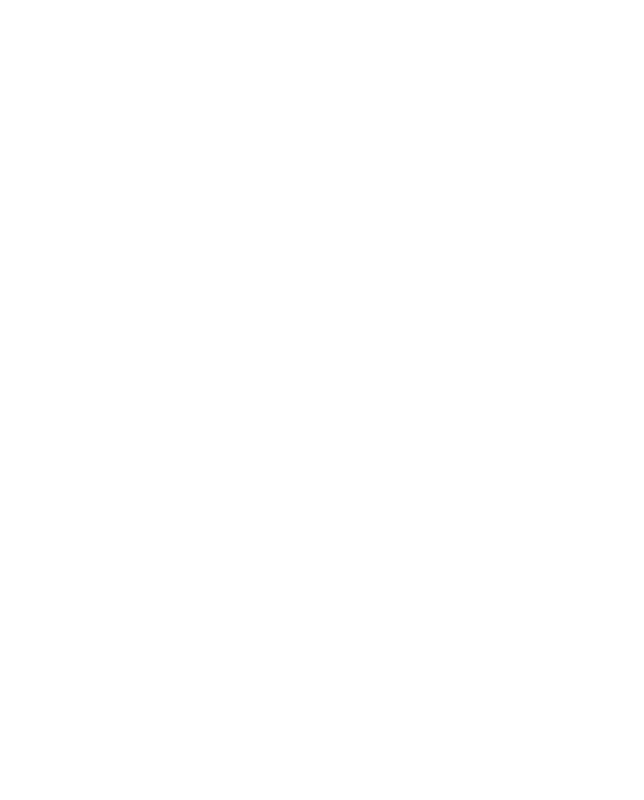
Гюстав Доре. Темпераментный Люцифер из мильтоновского «Потерянного рая»
Глаголом жечь
Остальных героев, пусть и не в такой степени, мы тоже представляем благодаря тому, как они действуют и как говорят. Язык Булгакова невероятно насыщен глаголами, причем именно действия, движения. Для примера позволю себе обширную выписку:
«Тут приключилась вторая странность, касающаяся одного Берлиоза. Он внезапно перестал икать, сердце его стукнуло и на мгновенье куда-то провалилось, потом вернулось, но с тупой иглой, засевшей в нем. Кроме того, Берлиоза охватил необоснованный, но столь сильный страх, что ему захотелось тотчас же бежать с Патриарших без оглядки.
Берлиоз тоскливо оглянулся, не понимая, что его напугало. Он побледнел, вытер лоб платком, подумал: «Что это со мной? Этого никогда не было… сердце шалит… я переутомился… Пожалуй, пора бросить все к черту и в Кисловодск…»
И тут знойный воздух сгустился перед ним, и соткался из этого воздуха прозрачный гражданин престранного вида. На маленькой головке жокейский картузик, клетчатый кургузый воздушный же пиджачок… Гражданин ростом в сажень, но в плечах узок, худ неимоверно, и физиономия, прошу заметить, глумливая.
Жизнь Берлиоза складывалась так, что к необыкновенным явлениям он не привык. Еще более побледнев, он вытаращил глаза и в смятении подумал: «Этого не может быть!..»
Но это, увы, было, и длинный, сквозь которого видно, гражданин, не касаясь земли, качался перед ним и влево и вправо.
Тут ужас до того овладел Берлиозом, что он закрыл глаза. А когда он их открыл, увидел, что все кончилось, марево растворилось, клетчатый исчез, а заодно и тупая игла выскочила из сердца».
Берлиоз тоскливо оглянулся, не понимая, что его напугало. Он побледнел, вытер лоб платком, подумал: «Что это со мной? Этого никогда не было… сердце шалит… я переутомился… Пожалуй, пора бросить все к черту и в Кисловодск…»
И тут знойный воздух сгустился перед ним, и соткался из этого воздуха прозрачный гражданин престранного вида. На маленькой головке жокейский картузик, клетчатый кургузый воздушный же пиджачок… Гражданин ростом в сажень, но в плечах узок, худ неимоверно, и физиономия, прошу заметить, глумливая.
Жизнь Берлиоза складывалась так, что к необыкновенным явлениям он не привык. Еще более побледнев, он вытаращил глаза и в смятении подумал: «Этого не может быть!..»
Но это, увы, было, и длинный, сквозь которого видно, гражданин, не касаясь земли, качался перед ним и влево и вправо.
Тут ужас до того овладел Берлиозом, что он закрыл глаза. А когда он их открыл, увидел, что все кончилось, марево растворилось, клетчатый исчез, а заодно и тупая игла выскочила из сердца».
Отрывок показательный: человек сидит на скамейке и видит галлюцинацию. Казалось бы, статичная сцена, да и описывать особенно нечего, а если и есть, то в любом случае это должны быть какие-то внутренние переживания со всеми традиционными: померещилось, показалось, подумал. И, действительно, глагол «подумал» два раза встречается в этом отрывке, но при этом происходит еще множество событий.
Не сходя со скамейки, Берлиоз успевает убежать с Патриарших, съездить в Кисловодск, испугаться, изумиться, оглянуться, закрыть глаза, открыть глаза и почти заработать себе инфаркт. И это, повторяю, не двигаясь с места. Если добавить, что в первой главе события только начинают закручиваться, и темп здесь еще относительно невысок, то, что говорить про те главы, где действие летит стремительно.
Не сходя со скамейки, Берлиоз успевает убежать с Патриарших, съездить в Кисловодск, испугаться, изумиться, оглянуться, закрыть глаза, открыть глаза и почти заработать себе инфаркт. И это, повторяю, не двигаясь с места. Если добавить, что в первой главе события только начинают закручиваться, и темп здесь еще относительно невысок, то, что говорить про те главы, где действие летит стремительно.
Толпа
Но вернемся к героям.
Весь роман — это бесконечная круговерть самых разнообразных персонажей. Булгаков очень ладно кроит эту жизненную ткань, переходит от героя к герою, ни на секунду не ослабляя действие. Нечто подобное проделал и Данте, только в «Божественной комедии» герой двигался навстречу «массам», а здесь «массы» движутся навстречу героям.
В «Мастере и Маргарите» есть сцены, которые целиком состоят из подобных смотрин. Первой на ум приходит сцена бала у Воланда (если ты не идешь в ад, ад идет к тебе, извините). Но помимо нее есть сеанс черной магии в Варьете. И, наконец, еще одна, где Понтий Пилат зачитывает приговор перед толпой.
Надо сказать, что Булгакову нравится делать несколько подходов к полюбившейся теме, всякий раз давая ей новое решение. Так, еще в «Театральном романе» перед Филиппом Филипповичем «проходила вся страна», и Филипп Филиппович, обладая безошибочным знанием людей, решал, кто каких мест заслуживает в театре. Сцена бала в «Мастере и Маргарите» решена во многом схоже. Здесь все знаменитые грешники проходят мимо Маргариты, но благодаря Коровьеву с Бегемотом мы знакомимся с ними более подробно, нежели с безымянными просителями Филиппа Филипповича. Тема прошения на секунду мелькает и здесь в облике Фриды (непрошеный привет из «Театрального романа»).
Сеанс черной магии в Варьете во многом перекликается со сценой бала, но именно как своего рода отражение: Воланд приходит к живым; Маргарита к мертвым. Отличий здесь, впрочем, намного больше. Во-первых, это смотрины обоюдные. Зрители пришли смотреть на мага, не подозревая, что маг пришел смотреть на них (Ницше). Во-вторых, акцент с отдельных персонажей перенесен на реакцию зрителей в целом. Подобное укрупнение вполне естественно, Воланд хочет узнать, «изменились ли эти горожане внутренне».
Весь роман — это бесконечная круговерть самых разнообразных персонажей. Булгаков очень ладно кроит эту жизненную ткань, переходит от героя к герою, ни на секунду не ослабляя действие. Нечто подобное проделал и Данте, только в «Божественной комедии» герой двигался навстречу «массам», а здесь «массы» движутся навстречу героям.
В «Мастере и Маргарите» есть сцены, которые целиком состоят из подобных смотрин. Первой на ум приходит сцена бала у Воланда (если ты не идешь в ад, ад идет к тебе, извините). Но помимо нее есть сеанс черной магии в Варьете. И, наконец, еще одна, где Понтий Пилат зачитывает приговор перед толпой.
Надо сказать, что Булгакову нравится делать несколько подходов к полюбившейся теме, всякий раз давая ей новое решение. Так, еще в «Театральном романе» перед Филиппом Филипповичем «проходила вся страна», и Филипп Филиппович, обладая безошибочным знанием людей, решал, кто каких мест заслуживает в театре. Сцена бала в «Мастере и Маргарите» решена во многом схоже. Здесь все знаменитые грешники проходят мимо Маргариты, но благодаря Коровьеву с Бегемотом мы знакомимся с ними более подробно, нежели с безымянными просителями Филиппа Филипповича. Тема прошения на секунду мелькает и здесь в облике Фриды (непрошеный привет из «Театрального романа»).
Сеанс черной магии в Варьете во многом перекликается со сценой бала, но именно как своего рода отражение: Воланд приходит к живым; Маргарита к мертвым. Отличий здесь, впрочем, намного больше. Во-первых, это смотрины обоюдные. Зрители пришли смотреть на мага, не подозревая, что маг пришел смотреть на них (Ницше). Во-вторых, акцент с отдельных персонажей перенесен на реакцию зрителей в целом. Подобное укрупнение вполне естественно, Воланд хочет узнать, «изменились ли эти горожане внутренне».
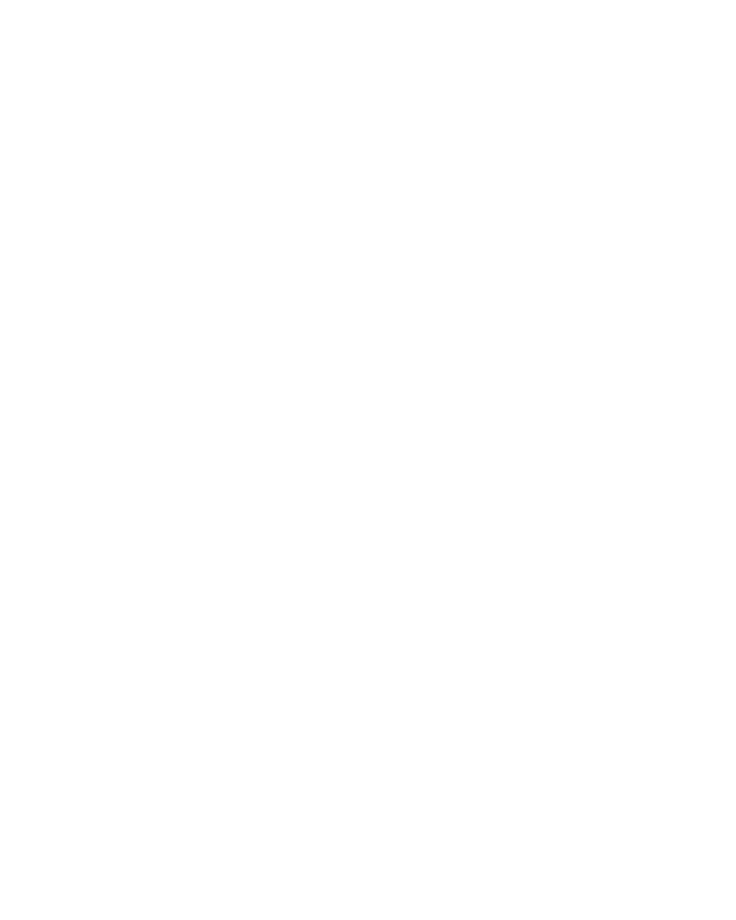
Всегда хотел, чтобы Воланда сыграл Аль Пачино, но его сыграл Басилашвили, увы
Диалог Воланда с Коровьевым, впрочем, кажется мне неудачным. Эти рассуждения вслух так и хочется сопроводить ремаркой «в сторону». Для кого их произносит Воланд? Для себя? Для Коровьева? Для зрителей? Единственный бенефициар это читатель, узнающий, наконец, зачем Воланду потребовалось это представление (мне тут, впрочем, подсказывают, что Воланд ведет конферанс для читателя, подменяя не справляющегося Бенгальского).
Но вернемся снова к теме смотрин. Если в Варьете есть еще отдельные персонажи, на которых фокусируется действие, то Пилат озвучивает приговор перед толпой, которую даже не видит. Здесь нет людей, здесь есть одна толпа, и Булгаков совершенно гениально описывает одно лишь ее звучание:
Но вернемся снова к теме смотрин. Если в Варьете есть еще отдельные персонажи, на которых фокусируется действие, то Пилат озвучивает приговор перед толпой, которую даже не видит. Здесь нет людей, здесь есть одна толпа, и Булгаков совершенно гениально описывает одно лишь ее звучание:
«Лишь только белый плащ с багряной подбивкой возник в высоте на каменном утесе над краем человеческого моря, незрячему Пилату в уши ударила звуковая волна: «Га-а-а…» Она началась не громко, зародившись где-то вдали у гипподрома, потом стала громоподобной и, продержавшись несколько секунд, начала спадать. «Увидели меня», — подумал прокуратор. Волна не дошла до низшей точки и неожиданно стала опять вырастать и, качаясь, поднялась выше первой, и на второй волне, как на морском валу вскипает пена, вскипел свист и отдельные, сквозь гром различимые, женские стоны. «Это их ввели на помост… — подумал Пилат, — а стоны оттого, что задавили нескольких женщин, когда толпа подалась вперед».
Он выждал некоторое время, зная, что никакою силой нельзя заставить умолкнуть толпу, пока она не выдохнет все, что накопилось у нее внутри, и не смолкнет сама.
И когда этот момент наступил, прокуратор выбросил вверх правую руку, и последний шум сдуло с толпы».
Он выждал некоторое время, зная, что никакою силой нельзя заставить умолкнуть толпу, пока она не выдохнет все, что накопилось у нее внутри, и не смолкнет сама.
И когда этот момент наступил, прокуратор выбросил вверх правую руку, и последний шум сдуло с толпы».
В «Мастере и Маргарите», таким образом, есть главные герои (Мастер, Понтий Пилат, Маргарита); герои второго плана, о которых мы получаем довольно подробное представление (Степа Лиходеев, Стравинский, Азазелло); персонажи эпизодические вроде профессора Кузьмина или Василия Степановича, у которых есть хотя бы имена, но которых можно и не вспомнить; громадное число безымянных мужчин и женщин, курьеров, фельдшеров, должностных лиц и служащих, зрителей и актеров и, наконец, толпа как она есть — безликое, однородное человеческое море.
Точки сборки
Но Булгаков не позволяет всему этому огромному количеству действующих и бездействующих лиц разбежаться как тараканам по роману, жизненные линии он тщательно сводит в пучки. Географическими точками сбора становятся: ресторан Грибоедов, лечебница Стравинского, дворец Ирода, дом №302-бис по Садовой улице.
Посмотрите, например, сколько персонажей завязаны на несчастный дом №302-бис: там проживали Берлиоз и Степа Лиходеев, туда вселяется Воланд со своей свитой, там живет Аннушка, разлившая маслице, туда направляется бесконечный поток людей, начиная с Никанора Ивановича и заканчивая неприметными людьми в штатском. Точно также все основное действие ершалаимских глав завязывается именно во дворце Ирода, а развязывается то на Лысой горе, то в Гефсиманском саду.
Точно также психиатрическая лечебница пополняется все новыми и новыми потерпевшими. Иногда Булгаков проводит беглую их инвентаризацию:
Посмотрите, например, сколько персонажей завязаны на несчастный дом №302-бис: там проживали Берлиоз и Степа Лиходеев, туда вселяется Воланд со своей свитой, там живет Аннушка, разлившая маслице, туда направляется бесконечный поток людей, начиная с Никанора Ивановича и заканчивая неприметными людьми в штатском. Точно также все основное действие ершалаимских глав завязывается именно во дворце Ирода, а развязывается то на Лысой горе, то в Гефсиманском саду.
Точно также психиатрическая лечебница пополняется все новыми и новыми потерпевшими. Иногда Булгаков проводит беглую их инвентаризацию:
«Никанору Ивановичу полегчало после впрыскивания, и он заснул без всяких сновидений.
Но благодаря его выкрикам тревога передалась в 120-ю комнату, где больной проснулся и стал искать свою голову, и в 118-ю, где забеспокоился неизвестный мастер и в тоске заломил руки, глядя на луну, вспоминая горькую, последнюю в жизни осеннюю ночь, полоску света из-под двери в подвале и развившиеся волосы.
Из 118-й комнаты тревога по балкону перелетела к Ивану, и он проснулся и заплакал».
Но благодаря его выкрикам тревога передалась в 120-ю комнату, где больной проснулся и стал искать свою голову, и в 118-ю, где забеспокоился неизвестный мастер и в тоске заломил руки, глядя на луну, вспоминая горькую, последнюю в жизни осеннюю ночь, полоску света из-под двери в подвале и развившиеся волосы.
Из 118-й комнаты тревога по балкону перелетела к Ивану, и он проснулся и заплакал».
Но помимо омутов географических человеческие души втягиваются автором в излюбленные им тематические омуты: театральный, литературный, медицинский — это самые основные. Все они чрезвычайно извилисто и изобретательно вкручиваются в роман.
Так, медицинская тема возникает уже в тот момент, когда Берлиоз видит свою галлюцинацию, подхватывается Воландом (саркома легкого; шизофрения — небрежно брошенные в разговоре), ускользает в Ершалаим (где Пилат страдает от гемикрании и допытывается у Иешуа, не врач ли тот), снова перебрасывается в наше время и неотступно следует за Иванушкой к Стравинскому. Но помимо Стравинского, возникнут еще «профессор судебной медицины, патологоанатом и его прозектор» над телом Берлиоза, буфетчик Соков побежит с подозрением на рак к профессору Кузьмину, а сам Кузьмин обратиться к профессору Буре. Врачи возникают то здесь, то там: один приедет спасать поющих «Славное море, священный Байкал», другого крикнут в Грибоедове, но не дозовутся, мелькнут санитарные машины, увозя Берлиоза и вагоновожатую и, наконец, шприц с успокоительным для Иванушки блеснет на мгновение в самом конце романа.
Так, медицинская тема возникает уже в тот момент, когда Берлиоз видит свою галлюцинацию, подхватывается Воландом (саркома легкого; шизофрения — небрежно брошенные в разговоре), ускользает в Ершалаим (где Пилат страдает от гемикрании и допытывается у Иешуа, не врач ли тот), снова перебрасывается в наше время и неотступно следует за Иванушкой к Стравинскому. Но помимо Стравинского, возникнут еще «профессор судебной медицины, патологоанатом и его прозектор» над телом Берлиоза, буфетчик Соков побежит с подозрением на рак к профессору Кузьмину, а сам Кузьмин обратиться к профессору Буре. Врачи возникают то здесь, то там: один приедет спасать поющих «Славное море, священный Байкал», другого крикнут в Грибоедове, но не дозовутся, мелькнут санитарные машины, увозя Берлиоза и вагоновожатую и, наконец, шприц с успокоительным для Иванушки блеснет на мгновение в самом конце романа.
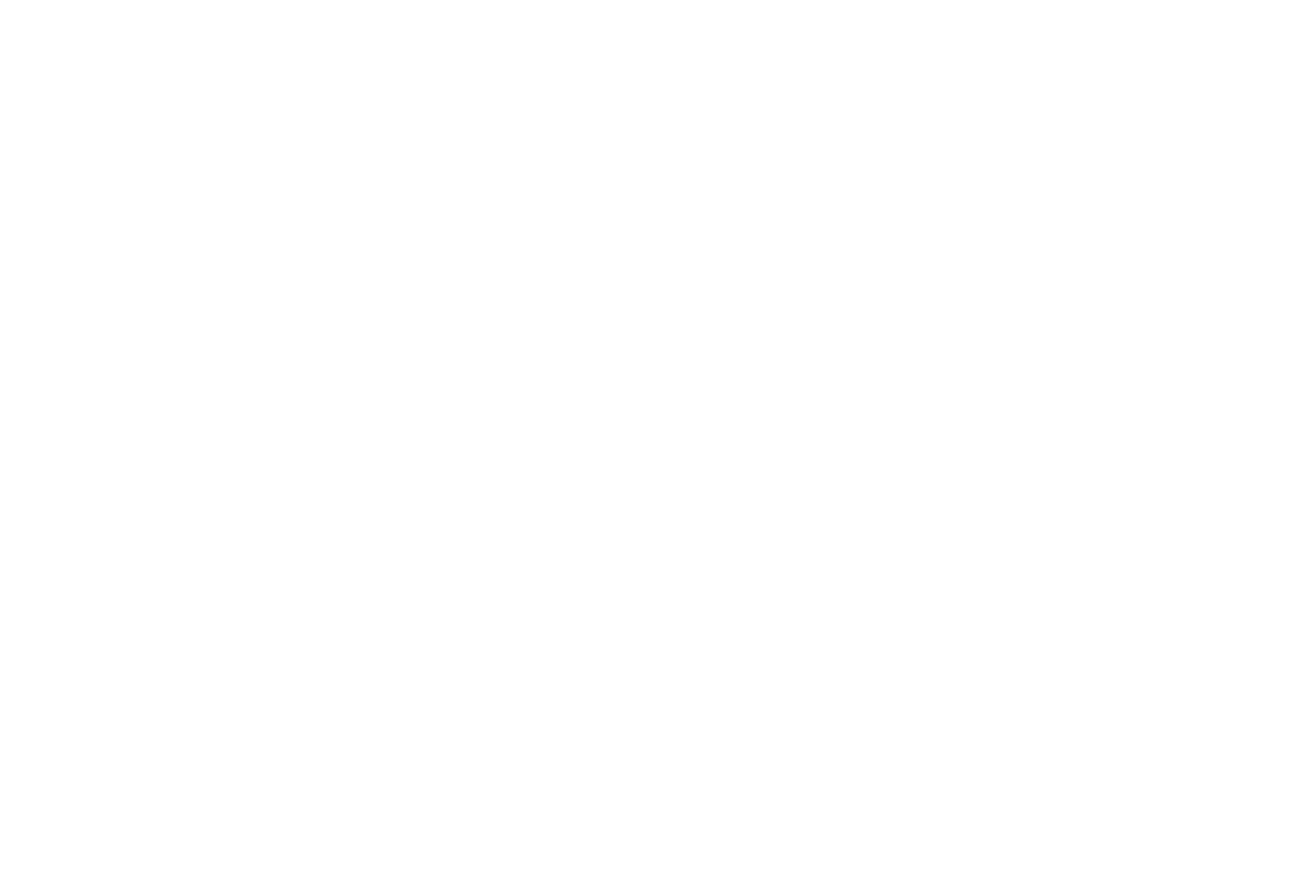
У памятника Пушкину. 1930-е. Фото Михаила Григорьевича Прехнера
Повторение темы, как вариация мелодии, не дает роману разойтись в ширь, раздаться во все стороны разом, исподволь оно структурирует его, стягивает далекие друг от друга части. Повторяются не только основные темы, но темы частные. Например, в «Мастере и Маргарите» невероятно много оркестров. Так, оркестр сопровождает Иванушкину погоню за Воландом (звучит полонез из «Евгения Онегина». «Евгений Онегин», кстати, еще раз будет упомянут Коровьевым, а уж тема Пушкина причудливо путается на протяжении всего романа); в Грибоедове играют джаз и выкрикивают «Аллилуйя!»; оркестр урезает марш в Варьете; играют на похоронах Берлиоза; на балу у Воланда оркестр играет полонез (снова полонез!), а в соседнем зале играют джаз (снова: «Аллилуйя!») Не успевает умолкнуть один оркестр, как эстафету подхватывает другой — музыка звучит в романе все время, что еще больше создает ощущение шума, движения, жизни и скорости.
Если у Чехова, объявившееся в первом акте ружье, непременно должно было выстрелить в последнем, то у Булгакова к последнему акту набирается целая оружейная комната таких ружей. Этот роман весь пронизан повторениями, причем, на самых разных уровнях. Например, на грозы, которые вспыхивают то в Москве, то в Ершалаиме, куча исследователей обращала внимание, так как трудно его не обратить, но, скажем, тема трамваев не менее назойлива в этом романе.
Трамвай отрезает голову Берлиозу; в трамвай лезет кот; «с таким в трамвай не садись!» (реплика в Варьете перед выступлением Воланда); сам Воланд, рассуждая как изменилась Москва, упоминает трамваи; Мастер, когда его выгнали из подвальчика, хочет броситься под трамвай; бухгалтер Василий Степанович направляется «не к автобусу или трамваю, а к таксомоторной стоянке», трамвай возникает в телеграмме отправленной дяде Берлиоза; на балу у Воланда кот утверждает, что уж лучше служить кондуктором в трамвае, чем принимать гостей, а под занавес свистом Коровьева на берег выносит трамвай, правда, речной.
Если у Чехова, объявившееся в первом акте ружье, непременно должно было выстрелить в последнем, то у Булгакова к последнему акту набирается целая оружейная комната таких ружей. Этот роман весь пронизан повторениями, причем, на самых разных уровнях. Например, на грозы, которые вспыхивают то в Москве, то в Ершалаиме, куча исследователей обращала внимание, так как трудно его не обратить, но, скажем, тема трамваев не менее назойлива в этом романе.
Трамвай отрезает голову Берлиозу; в трамвай лезет кот; «с таким в трамвай не садись!» (реплика в Варьете перед выступлением Воланда); сам Воланд, рассуждая как изменилась Москва, упоминает трамваи; Мастер, когда его выгнали из подвальчика, хочет броситься под трамвай; бухгалтер Василий Степанович направляется «не к автобусу или трамваю, а к таксомоторной стоянке», трамвай возникает в телеграмме отправленной дяде Берлиоза; на балу у Воланда кот утверждает, что уж лучше служить кондуктором в трамвае, чем принимать гостей, а под занавес свистом Коровьева на берег выносит трамвай, правда, речной.
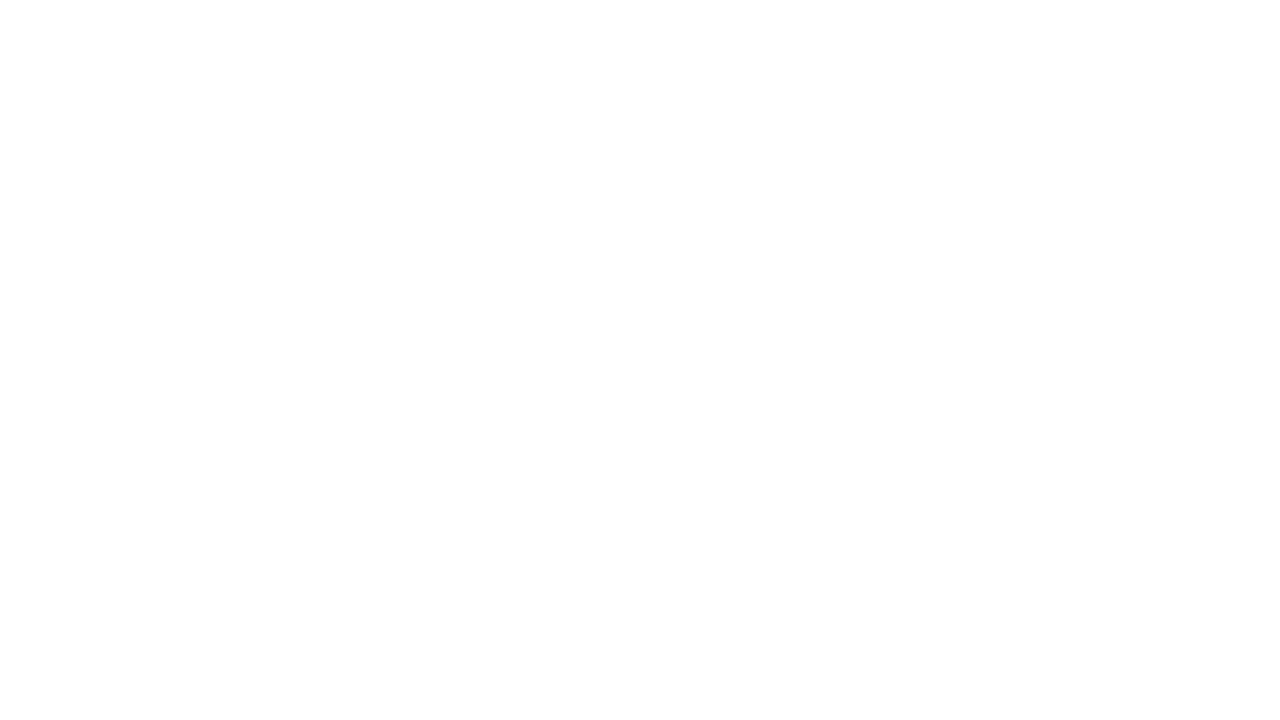
Трамваи булгаковских времен. Конец 20-х.Тверской бульвар. Вид на Страстную площадь
Вечное возвращение
Как Булгаков не дает потухнуть излюбленным темам, точно также он поддерживает жизнь в Берлиозе. Между тем моментом, когда ему отрежет трамваем голову и до того момента, когда из чаши, сделанной из его головы, выпьет вино Маргарита, Берлиоз продолжает вести в романе очень активную жизнь. О нем вспоминают то осиротевшие писатели, то Степа Лиходеев, то Иванушка, то дядя из Киева, по нему плачет сердобольный Коровьев, его похороны видит Маргарита, его голову, наконец, крадут из гроба.
Достигается это благодаря множеству упоминаний подобных следующему:
«Да, по гроб жизни должен быть благодарен покойному Берлиозу обитатель квартиры № 84 в восьмом этаже за то, что председатель Массолита попал под трамвай, и за то, что траурное заседание назначили как раз на этот вечер. Под счастливой звездой родился критик Латунский».
Больше того, этот чрезвычайно деятельный покойник, даже провалившись в небытие на балу у Воланда, немедленно выбирается оттуда и еще несколько раз появляется в эпилоге. Не считая Ивана Бездомного, он единственный персонаж, который проживает этот роман от корки до корки.
Достигается это благодаря множеству упоминаний подобных следующему:
«Да, по гроб жизни должен быть благодарен покойному Берлиозу обитатель квартиры № 84 в восьмом этаже за то, что председатель Массолита попал под трамвай, и за то, что траурное заседание назначили как раз на этот вечер. Под счастливой звездой родился критик Латунский».
Больше того, этот чрезвычайно деятельный покойник, даже провалившись в небытие на балу у Воланда, немедленно выбирается оттуда и еще несколько раз появляется в эпилоге. Не считая Ивана Бездомного, он единственный персонаж, который проживает этот роман от корки до корки.
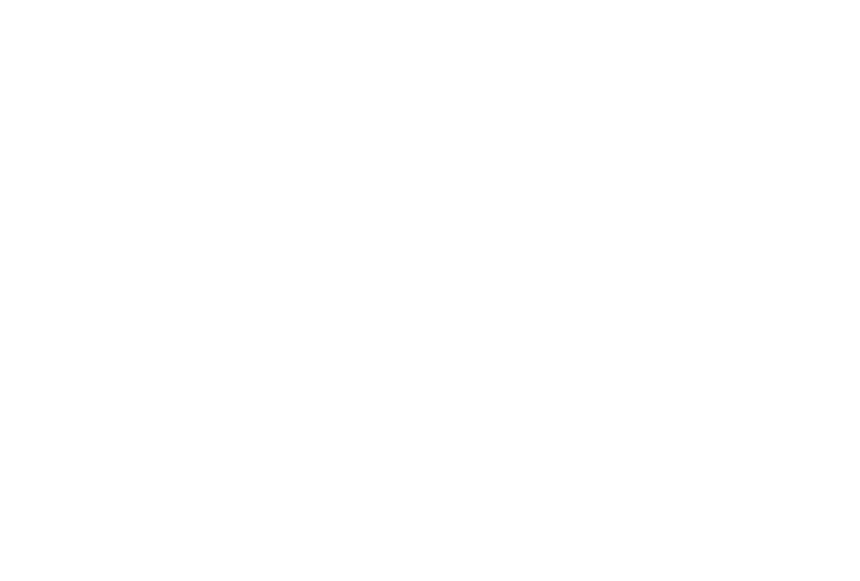
Москва. 1930-е
Надо сказать, что есть целый ряд персонажей, оставив которых до поры, Булгаков вновь к ним возвращается. Это и Аннушка, которая пытается заныкать подковку и Алоизий Могарыч, пристроивший ванну, и Варенуха, и многие другие. Большинство из них еще выйдет на поклон в эпилоге.
Эти постоянные возвраты и повторы существуют и на стилистическом уровне. Самый яркий пример это повторение с некоторыми вариациями слов «пятый прокуратор Иудеи, всадник Понтий Пилат». В романе это встречается пять раз. Впервые произносит их Мастер:
«...я уже знал, что последними словами романа будут: «…Пятый прокуратор Иудеи всадник Понтий Пилат».
Как и было предсказано, Ершалаимский цикл заканчивается:
«Так встретил рассвет пятнадцатого нисана пятый прокуратор Иудеи Понтий Пилат».
Следующая глава начинается со слов:
«Когда Маргарита дошла до последних слов главы: «…Так встретил рассвет пятнадцатого нисана пятый прокуратор Иудеи Понтий Пилат», – наступило утро».
Последняя глава романа заканчивается следующим образом:
«Этот герой ушел в бездну, ушел безвозвратно, прощенный в ночь на воскресение сын короля-звездочета, жестокий пятый прокуратор Иудеи всадник Понтий Пилат».
И наконец, последние слова эпилога:
«Его исколотая память затихает, и до следующего полнолуния профессора не потревожит никто: ни безносый убийца Гестаса, ни жестокий пятый прокуратор Иудеи всадник Понтий Пилат».
Все эти повторы тем, однобокость героев, возвращение к одним и тем же героям, повторы стилистические, которых тоже очень много в этом романе, нужны для того, чтобы сделать повествование максимально концентрированным и замкнутым. С каждым заходом на одну и ту же тему картинка прорисовывается все четче и ярче. Стремительный темп романа и пестрота событий не дезориентируют только потому, что мы бежим по привычному кругу, натыкаясь то там, то здесь на старых знакомых (одна из причин, почему второстепенные персонажи так хорошо запоминаются).
Эти постоянные возвраты и повторы существуют и на стилистическом уровне. Самый яркий пример это повторение с некоторыми вариациями слов «пятый прокуратор Иудеи, всадник Понтий Пилат». В романе это встречается пять раз. Впервые произносит их Мастер:
«...я уже знал, что последними словами романа будут: «…Пятый прокуратор Иудеи всадник Понтий Пилат».
Как и было предсказано, Ершалаимский цикл заканчивается:
«Так встретил рассвет пятнадцатого нисана пятый прокуратор Иудеи Понтий Пилат».
Следующая глава начинается со слов:
«Когда Маргарита дошла до последних слов главы: «…Так встретил рассвет пятнадцатого нисана пятый прокуратор Иудеи Понтий Пилат», – наступило утро».
Последняя глава романа заканчивается следующим образом:
«Этот герой ушел в бездну, ушел безвозвратно, прощенный в ночь на воскресение сын короля-звездочета, жестокий пятый прокуратор Иудеи всадник Понтий Пилат».
И наконец, последние слова эпилога:
«Его исколотая память затихает, и до следующего полнолуния профессора не потревожит никто: ни безносый убийца Гестаса, ни жестокий пятый прокуратор Иудеи всадник Понтий Пилат».
Все эти повторы тем, однобокость героев, возвращение к одним и тем же героям, повторы стилистические, которых тоже очень много в этом романе, нужны для того, чтобы сделать повествование максимально концентрированным и замкнутым. С каждым заходом на одну и ту же тему картинка прорисовывается все четче и ярче. Стремительный темп романа и пестрота событий не дезориентируют только потому, что мы бежим по привычному кругу, натыкаясь то там, то здесь на старых знакомых (одна из причин, почему второстепенные персонажи так хорошо запоминаются).
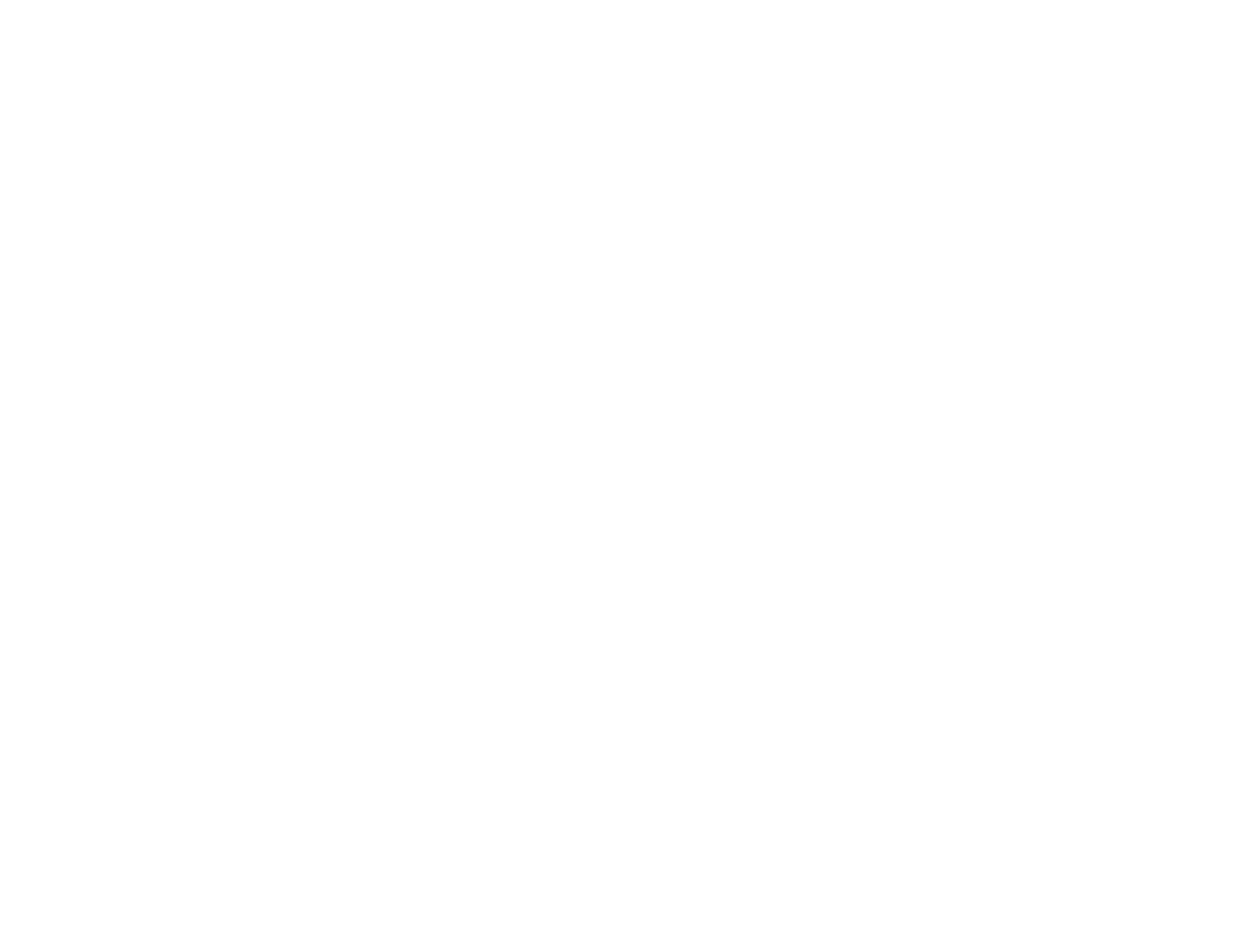
Ресторан гостиницы «Савой». 1930-е. Фото Михаила Григорьевича Прехнера
Слоганы
Я уже говорил, что герои у Булгакова сведены к какой-то одной функции, в соответствии с которой они иногда произносят сентенции, ставшие знаменитыми. Так, Воланду, который отвечает за справедливость (когда не валяет дурака), принадлежат, например, такие полюбившиеся читателям слова: «Все будет правильно, на этом построен мир» и «все теории стоят одна другой. Есть среди них и такая, согласно которой каждому будет дано по его вере». Эти афористичные высказывания немедленно привлекают любителей больших идей, а также тех, кто по долгу службы вынужден что-нибудь об этом романе говорить.
Почему-то принято считать, что идеи увеличивают ценность художественного произведения, хотя часто случается и обратное, и идея просто паразитирует на тексте, за счет его полнокровности обретая мнимую значимость. Но, то ли в силу нравственных ожиданий от художественного текста, то ли в надежде, что, начав говорить о главном, автор без лишних обиняков донесет свои сокровенные мысли, и их не нужно будет выцеплять в хитросплетении сюжетных линий, спрос на идеи по-прежнему остается высок.
Булгаковский роман в этом отношении весьма коварен. Читатель ждет идей и тут же их получает, он узнает про то, что «злых людей нет на свете», что «трусость — самый тяжкий порок», что не нужно никогда и ничего просить, узнает, что мир устроен правильно, и что «рукописи не горят». И читатель, обычный читатель, на этом успокаивается, но критику и литературоведу хочется читать дальше, а дальше ничего нет. Бедняги начинают шарить между строк, в надежде ухватить блеснувшую на миг идею и показывать руками: «Вот такую видел, чтоб мне сдохнуть!» Сопоставляют философов, которых Булгаков читал, ищут в черновых рукописях, в дневниках, воспоминаниях...
И хотя все это, наверное, очень увлекательно, но, по-моему, гораздо интереснее другое. Гораздо интереснее, что булгаковские идеи чрезвычайно напоминают удачные слоганы. Они прочно ассоциируются с конкретным героем или ситуацией (как и хороший слоган неразрывно связан с компанией или брендом), но при этом легко отчуждаемы. Попытайтесь-ка оторвать идею Раскольникова от самого Раскольникова или идеи Левина от самого Левина. Это можно сделать, но это будет не просто. Герой и его мировоззрение слишком переплетены друг с другом. Тут, к радости исследователя, еще не идея, а так, идейная руда. Ее надлежит вывезти на обогатительный завод, сформировать окатыши, которые затем можно будет переплавить в чистые идеи, добавив своего исследовательского уголька. У Булгакова мы уже находим цельные самородки: ими можно любоваться, можно выставить в музее, можно сделать какое-нибудь украшение, но серьезного производства с ними не построишь.
Можно сказать, что эти блистательные афоризмы играют скорее эстетическую роль, служат этаким эффектным завершением, короной над королем. Если отвлечься от их безупречной формы, они мало что добавляют к роману, точно также как и слоган мало что добавляет хорошему продукту или компании. Важнее другое. Эти чеканные формулировки органично смотрятся в романе именно потому, что произносятся соответствующими героями. Не случайно самые пафосные реплики отданы Воланду, в его исполнении они не смотрятся ни смешно, ни напыщенно (видимо, Булгаков тоже хорошо понимал, «что разница между комической стороной вещей и их космической стороной зависит от одной свистящей согласной»).
Я вновь и вновь возвращаюсь к той идее, что этот роман настроен очень тонко; попытка перенести его на сцену или на экран равнозначна попытке перенести карточный домик. Получившийся булгаковский мир может нравится или не нравится, но он выстроен очень тщательно, идеально сбалансирован и, тщательно маскируясь под мир реальный, искусствен настолько, насколько это только возможно.
Надо сказать, что этот роман дистанцируется не только от реальности, но и от других литературных миров. Имея с ними множество связей, он тщательно отстаивает свою автономию, можно всю жизнь прокататься по санаториям и не знать про «Фауста», «Божественную комедию» или книжку с тяжеловесным названием «Венедиктов или достопамятные события жизни моей» и вместе с тем роман этот прекрасно понимать. С другой стороны, абсолютно ничего не мешает отыскивать сходство с другими романами и в сущей ерунде. Например, утверждать, что когда машина с Рюхиным въезжает в Москву, то это напоминает въезд Татьяны:
...навстречу грузовику сыпалась разная разность: какие-то заборы с караульными будками и штабеля дров, высоченные столбы и какие-то мачты, а на мачтах нанизанные катушки, груды щебня, земля, исполосованная каналами, балконы, львы на воротах и стаи галок на крестах...
Что исподволь подготовляет охватившую Рюхина зависть к Пушкину. А, может, и подготовляет, кто его знает?
Почему-то принято считать, что идеи увеличивают ценность художественного произведения, хотя часто случается и обратное, и идея просто паразитирует на тексте, за счет его полнокровности обретая мнимую значимость. Но, то ли в силу нравственных ожиданий от художественного текста, то ли в надежде, что, начав говорить о главном, автор без лишних обиняков донесет свои сокровенные мысли, и их не нужно будет выцеплять в хитросплетении сюжетных линий, спрос на идеи по-прежнему остается высок.
Булгаковский роман в этом отношении весьма коварен. Читатель ждет идей и тут же их получает, он узнает про то, что «злых людей нет на свете», что «трусость — самый тяжкий порок», что не нужно никогда и ничего просить, узнает, что мир устроен правильно, и что «рукописи не горят». И читатель, обычный читатель, на этом успокаивается, но критику и литературоведу хочется читать дальше, а дальше ничего нет. Бедняги начинают шарить между строк, в надежде ухватить блеснувшую на миг идею и показывать руками: «Вот такую видел, чтоб мне сдохнуть!» Сопоставляют философов, которых Булгаков читал, ищут в черновых рукописях, в дневниках, воспоминаниях...
И хотя все это, наверное, очень увлекательно, но, по-моему, гораздо интереснее другое. Гораздо интереснее, что булгаковские идеи чрезвычайно напоминают удачные слоганы. Они прочно ассоциируются с конкретным героем или ситуацией (как и хороший слоган неразрывно связан с компанией или брендом), но при этом легко отчуждаемы. Попытайтесь-ка оторвать идею Раскольникова от самого Раскольникова или идеи Левина от самого Левина. Это можно сделать, но это будет не просто. Герой и его мировоззрение слишком переплетены друг с другом. Тут, к радости исследователя, еще не идея, а так, идейная руда. Ее надлежит вывезти на обогатительный завод, сформировать окатыши, которые затем можно будет переплавить в чистые идеи, добавив своего исследовательского уголька. У Булгакова мы уже находим цельные самородки: ими можно любоваться, можно выставить в музее, можно сделать какое-нибудь украшение, но серьезного производства с ними не построишь.
Можно сказать, что эти блистательные афоризмы играют скорее эстетическую роль, служат этаким эффектным завершением, короной над королем. Если отвлечься от их безупречной формы, они мало что добавляют к роману, точно также как и слоган мало что добавляет хорошему продукту или компании. Важнее другое. Эти чеканные формулировки органично смотрятся в романе именно потому, что произносятся соответствующими героями. Не случайно самые пафосные реплики отданы Воланду, в его исполнении они не смотрятся ни смешно, ни напыщенно (видимо, Булгаков тоже хорошо понимал, «что разница между комической стороной вещей и их космической стороной зависит от одной свистящей согласной»).
Я вновь и вновь возвращаюсь к той идее, что этот роман настроен очень тонко; попытка перенести его на сцену или на экран равнозначна попытке перенести карточный домик. Получившийся булгаковский мир может нравится или не нравится, но он выстроен очень тщательно, идеально сбалансирован и, тщательно маскируясь под мир реальный, искусствен настолько, насколько это только возможно.
Надо сказать, что этот роман дистанцируется не только от реальности, но и от других литературных миров. Имея с ними множество связей, он тщательно отстаивает свою автономию, можно всю жизнь прокататься по санаториям и не знать про «Фауста», «Божественную комедию» или книжку с тяжеловесным названием «Венедиктов или достопамятные события жизни моей» и вместе с тем роман этот прекрасно понимать. С другой стороны, абсолютно ничего не мешает отыскивать сходство с другими романами и в сущей ерунде. Например, утверждать, что когда машина с Рюхиным въезжает в Москву, то это напоминает въезд Татьяны:
...навстречу грузовику сыпалась разная разность: какие-то заборы с караульными будками и штабеля дров, высоченные столбы и какие-то мачты, а на мачтах нанизанные катушки, груды щебня, земля, исполосованная каналами, балконы, львы на воротах и стаи галок на крестах...
Что исподволь подготовляет охватившую Рюхина зависть к Пушкину. А, может, и подготовляет, кто его знает?
Читайте также
